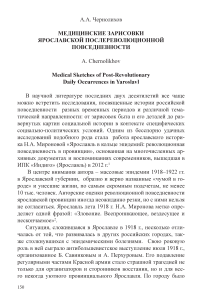Медицинские зарисовки ярославской послереволюционной повседневности
Автор: Чернолихов Алексей Александрович
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: У книжной полки
Статья в выпуске: 41, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье в контексте современной историографии анализируется книга ярославского историка Н.А. Мироновой «Ярославль в кольце эпидемий: революционная повседневность в провинции» (Ярославль, 2012). Особое внимание в книге уделяется массовым эпидемиям 1918-1922 гг. в Ярославской губернии, а также крайне неблагоприятному санитарному состоянию Ярославля, которое во многом являлось следствием разрушения города во время подавления антибольшевистского восстания в 1918 г. В книге аргументировано доказывается, что столь широкому размаху эпидемий в городе способствовала острейшая ассенизационная проблема, с которой пришлось столкнуться как населению, так и врачам. Неблагоприятными факторами являлись также значительное разрушение и запустение городского хозяйства и недостаток медицинского персонала, подготовленного к работе в условиях массовых эпидемий. В статье делается вывод о том, что книга Н.В. Мироновой удачно дополняет исследования по истории Ярославля, по истории повседневности российской послереволюционной провинции и по истории эпидемий в Советской России.
Гражданская война в России, советская власть, ярославская губерния, ярославль, ярославское восстание 1918 г, здравоохранение, санитарное дело, эпидемия, медицинское сообщество, повседневность, смертность
Короткий адрес: https://sciup.org/14913697
IDR: 14913697
Текст научной статьи Медицинские зарисовки ярославской послереволюционной повседневности
В научной литературе последних двух десятилетий все чаще можно встретить исследования, посвященные истории российской повседневности разных временных периодов и различной тематической направленности: от зарисовок быта и его деталей до развернутых картин социальной истории в контексте специфических социально-политических условий. Одним из бесспорно удачных исследований подобного рода стала работа ярославского историка Н.А. Мироновой «Ярославль в кольце эпидемий: революционная повседневность в провинции», основанная на многочисленных архивных документах и воспоминаниях современников, вышедшая в ИПК «Индиго» (Ярославль) в 2012 г.1
В центре внимания автора – массовые эпидемии 1918–1922 гг. в Ярославской губернии, образно и верно названные «чумой в городе» и унесшие жизни, по самым скромным подсчетам, не менее 10 тыс. человек. Авторские оценки революционной повседневности ярославской провинции иногда неожиданно резки, но с ними нельзя не согласиться. Ярославль лета 1918 г. Н.А. Миронова метко определяет одной фразой: «Зловоние. Всепроникающее, вездесущее и нескончаемое»2.
Ситуация, сложившаяся в Ярославле в 1918 г., несколько отличалась от той, что развивалась в других российских городах, также столкнувшихся с эпидемическими болезнями. Свою роковую роль в ней сыграло антибольшевистское выступление июля 1918 г., организованное Б. Савинковым и А. Перхуровым. Его подавление регулярными частями Красной армии стало страшной трагедией не только для организаторов и сторонников восстания, но и для всего некогда уютного провинциального Ярославля. По городу было выпущено более 75 тыс. снарядов. Центр города был практически полностью разрушен. С лица земли были стерты 2 147 строений, сгорело 20 фабрик и заводов, 67 зданий государственного, медицинского, культурного назначения. Без крова остались 28 тыс. жителей. После боев трупы сотнями сбрасывались в Волгу, отравляя в ней воду. Общий ущерб, нанесенный Ярославлю, составил 124 млн 159 тыс. руб.3
Все это самым страшным образом усугубило санитарное состояние города, и так не самое благополучное в первые месяцы Советской власти. Скученность людей, отсутствие жилья, голод и холод стали причинами распространения эпидемических заболеваний, и в первую очередь сыпного тифа. Автор справедливо замечает, что для Ярославля настоящей гуманитарной катастрофой стала ассенизационная проблема. Не случайно во весь голос о ней заговорили ярославские врачи.
В августе 1918 г. доктор И.В. Александровский выступил с требованием ускорить налаживание канализации для больниц, школ и крупных общественных учреждений4. На заседаниях Санитарно-эпидемиологической секции Отдела здравоохранения Ярославского губисполкома постоянно обсуждались вопросы, связанные с ассенизацией. Врач Н.В. Соловьев отмечал: «Открытые зияющие выгребные и помойные ямы с твердыми и жидкими нечистотами, количество которых, по подсчету Управления работами по восстановлению Ярославля, достигает 2 000 000 ведер, является вполне реальной угрозой санитарному благополучию всего оставшегося населения. Эти ямы будут опасны весной и летом именно тем, что будут привлекать к себе разносителей заразы – мух и прочих насекомых» На заседаниях Санитарно-эпидемиологической секции медицинской коллегии постоянно обсуждались вопросы, связанные с ассенизацией На заседаниях Санитарно-эпидемиологической секции медицинской коллегии постоянно обсуждались вопросы, связанные с ассенизацией5.
Подобные картины встречались в Ярославле повсеместно. И в рабочих окраинах, и в центре, в местах, казалось бы самим своим предназначением должных отличаться чистотой. Вот как выглядели помещения одного из зданий в центре города, выделенного Медицинскому факультету и временно занятому отрядами ВЧК: 15 февраля 1919 г., после освобождения зданий, созданная ректором ко- миссия осмотрела помещения. Составленный ею акт полон записей о вопиющей антисанитарной обстановке, сломанной и пущенной на топку мебели (шкафах, столах, стульях). В комнатах и на лестницах появились горы мусора и нечистот. Во дворе – переполненные выгребные и мусорные ямы. Все электрические лампочки – вывернуты и бесследно исчезли. Пол в занятых для постоя комнатах, лестничные площадки и уборные были загажены калом и мочой. Эта ужасающая антисанитария, а также зловоние, распространявшееся по зданию, заставили приостановить занятия на Историческом отделении, равно как и дальнейшие работы по оборудованию Медицинского факультета6.
Тщательно проанализировав все риски и факторы, препятствовавшие решению санитарных проблем, Н.А. Миронова показала, что, несмотря на все усилия ярославских медиков, наладить ассенизацию удовлетворительным образом не удалось. И это привело к чудовищному разгулу сыпного тифа и прочих эпидемических болезней в Ярославле. И дело было не только в разрушенной канализации, но и в разрушенном жилье, приведшем к тяжелейшему жилищному кризису. По разным подсчетам, ярославцы потеряли от одной трети до двух третей всех жилых и хозяйственных построек. Совершенно без крова осталось до 30 тыс. человек, что составляло не менее трети населения. В одной комнате в Ярославле проживали 10–20 человек.
Ситуацию еще больше осложняло присутствие в городе ярославского гарнизона, а это – ни много, ни мало – 35 тыс. солдат, занимавших пригодные для проживания жилые строения. Их число увеличивалось из-за прибывавших в город новых раненых красноармейцев. А, как известно, в местах большого скопления людей инфекции передаются особенно быстро. Случаи заболевания тифом и оспой были зарегистрированы и среди солдат ярославского гарнизона7. При этом возможности военно-санитарного ведомства в Ярославле были ограничены. При подавлении антибольшевистского восстания сгорел главный корпус гарнизонного лазарета, в связи с чем лазарет перестал существовать. Функции гарнизонного лазарета были переданы 104-му эвакуационному госпиталю, располагавшемуся на Волжской набережной в здании Епархиального училища8.
Интересна приведенная в книге характеристика санитарного состояния данного госпиталя. «Заглянем в другой лазарет, военный,
№ 104. Вот где было настоящее гнездо сыпняка! О многом говорят цифры протокола осмотра лазарета: “Число больных и персонала в день осмотра состояло: больных сыпным тифом 288, возвратным 238, изолятор 26, всего 522, в том числе из состава гарнизона около 200, остальные эвакуированные. Обслуживающего персонала: врачей здоровых 6, больных 5, лекпомов здоровых 10, больных 14, аптечного персонала здоровых 4, больных 1, сестер здоровых 9, больных 11, санитаров на лицо 220, больных 76, в отпуску по болезни 89…” Цифры о многом говорят: в этом лазарете был настоящий мор… Болели почти все… Санитары и сиделки ходят за больными без халатов, причем ссылаются на то, что халаты редко сменяются и покрыты вшами…»9.
Естественно, подобная ситуация в лазарете не могла не провоцировать новых вспышек сыпного тифа. Продолжая оценивать санитарное состояние города и прежде всего общественных заведений, таких как столовые, кухни, пункты детского питания, парикмахерские, кофейни, дома инвалидов, приюты, школы, Н.В. Миронова справедливо подытоживает характерный штрих того времени: «Куда бы мы ни зашли, всюду грязь»10. Нельзя не согласиться с ее выводом: «Подводя итог «невеселой» экскурсии по Ярославлю, прогулке по его зловонным сгоревшим улицам, надо сказать главное: трудно себе представить более благоприятное для эпидемий место»11.
А вот уже следующее по тексту заключение автора – «Бездействие центральных и местных властей в подобных условиях было преступным»12 (с. 46) – явно несправедливо.
Не бездействовали ни центральные, ни местные власти. Но справиться с эпидемиями такого размаха Советской России, нуждавшейся буквально во всем, было очень сложно. Послереволюционную Россию захлестнула пандемия сыпного и возвратного тифов. С 1918 по 1922 гг. численность переболевших сыпным тифом составила 6,5 млн человек, возвратным тифом – 3,2 млн. Лекарств не хватало, санитаров не хватало, врачей не хватало. Пытаясь хоть как-то исправить ситуацию, Совнарком предпринимал решительные меры. 29 июля 1918 г. был подписан первый декрет СНК РСФСР о мобилизации медицинского персонала. Дальнейшее развертывание Гражданской войны и ухудшение общей эпидемиологической обстановки потребовали издания ряда последующих декретов о призыве на военную службу врачей, зубных врачей, фармацевтов, ветеринарных врачей, лекарских помощников, врачей-женщин. Призыву подлежали все, годные к службе. Но это позволяло лишь частично восполнять многократно возросшую потребность во врачах.
Справиться с эпидемиями удалось в середине 1920-х гг. благодаря факторам, действие которых по времени совпало с окончанием Гражданской войны и переходом к мирному строительству13. Думается, дело не в бездействии ярославских властей. Ярославль в 1918 г. был обречен на постоянные вспышки эпидемических заболеваний. И не только сыпного тифа. Не случайно, отдельную главу своей книги Н.А. Миронова назвала «Холера, оспа, сифилис». И здесь опять ярославская повседневность повторяла картину, свойственную в те годы всей России.
Представленную в книге статистику холеры, оспы, сифилиса отличает основательность и добросовестность авторских подходов, сравнительный анализ динамики данных заболеваний в Ярославле и других городах России. Серьезные вспышки холеры, натуральной оспы, сифилиса, туберкулеза, дифтерита, кори, дизентерии и других заболеваний наблюдались в Ярославской губернии и в дореволюционное время, требуя от губернских и уездных врачей системных решений и упорства в организации противоэпидемических меро-приятий14.
Анализируя первые послереволюционные годы, Н.А. Миронова оперирует ярославскими архивными данными, вписывая их в общую картину эпидемических заболеваний в России. В то же время, давая серьезный анализ демографической ситуации, увязывая ее с эпидемиями этих лет, автор прошла мимо такого фундаментального и добротного коллективного исследования, как «Демографическая модернизация России. 1900 – 2000» (Москва, 2006). Содержащееся в этой монографии детальное исследование огромного статистического материала дает ответы на многие вопросы российской истории, связанные с мифами и реальностями советского здравоохранения.
Нельзя не сказать спасибо автору за те страницы, которые посвящены замечательным ярославским врачам – Н.В. Соловьеву, Г.И. Курочкину, А.А. Голосову, Г.В. Несытову, С.Н. Кузнецову, В.М. Троицкому, М.Ф. Чичериной, Е.А. Кацуцевичу, Е.А. Кройчику, А.В. Тихоновичу. Их работа в те годы, конечно же, – подвиг. Статистика фиксирует высокую смертность среди российских медиков во время
Гражданской войны: с 1917 по 1922 гг. в России от сыпного тифа погибли 1 400 врачей. Смертность врачей доходила до 33 % в Харькове и до 38 % в Кременчуге15. Ярославские врачи работали в еще более сложных условиях разрушенного в результате восстания города. Один из самых известных врачей того времени – Николай Васильевич Соловьев – также пал жертвой тифа. После его преждевременной гибели в 1922 г. крупнейшая больница города была названа его именем. Сегодня это клиническая больница Скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева.
Краткие биографии ярославских врачей органично вписаны в общую картину охваченного эпидемиями Ярославля. Но, к сожалению, не лишены ошибок. Профессор Александр Васильевич Тихонович никогда не был деканом Ярославского медицинского института, и Ярославль он покинул не в 1924 г. После закрытия в 1924 г. Ярославского университета, А.В. Тихонович настойчиво (но безуспешно) вместе с руководителями Отдела здравоохранения Ярославского губисполкома на протяжении нескольких лет добивался восстановления Медицинского факультета. Он продолжал работать в Ярославле до 1931 г., заведуя городской хирургической больни-цей16.
Много интересных фактов и обобщений содержит глава «Санитарный ликбез в эпоху эпидемий. Пациент 1920-х годов». Автор абсолютно права, утверждая, что крестьянин 1920-х гг. в вопросах гигиены, санитарии, медицины ничем не отличался от деревенского жителя начала XX в. или даже конца XIX в. Даже в городах понятие чистоты, уборки, санитарии необходимо было прививать. Здесь автор, как и в предшествующих главах, широко привлекает художественную литературу, позволяющую более зримо раскрыть тот или иной сюжет, приводит яркие примеры людских суеверий, встававших преградой на пути профилактической и санитарно-просветительной работы. В силу этих обстоятельств, как верно подметила автор, советские агитационные материалы начала 1920-х гг. отличались выразительностью, откровенной прямолинейностью, более понятной малообразованному обывателю.
Характерный пример – стихотворные рекомендации Г. Добржин-ского-Диез, тонкими агитационными брошюрами расходившиеся по городам и селам. Одну из них автор цитирует в своей книге:
Мужички зараз собрались, поругались, потоптались,
И решили помолчать, – ну а доктор стал читать:
«Всю холерную заразу извести мы можем сразу, Эпидемию пресечь и самих себя сберечь.
Для того в жилье и в пище нужно быть как можно чище
И, чтоб не было беды, не хлебать сырой воды.
Все, что ешь, сперва смотри, хорошенько повари,
Чистота – вот ваша сила. У кого ж живот схватило, То сейчас ко мне беги: так и так, мол, помоги…»17
Завершает книгу глава «Новая медицина: от земского врача к фельдшеру». Она лишь косвенно связана с концептуальным строем книги и скорее демонстрирует размышления автора о советском враче в новых исторических реалиях, чем дает характеристики новой медицины в ее привязке к эпидемиям послереволюционных лет. И содержание главы достаточно спорно, а в ряде мест – поверхностно и противоречиво. Явления «фельдшеризма», характеризующие деятельность ряда врачей генерации 1920-х гг., не идеализировались руководством Народного комиссариата здравоохранения РСФСР. Как раз наоборот – активно критиковались. Так что явно несимпатичный автору нарком здравоохранения Н.А. Семашко (это явствует из текста главы) в «фельдшеризме» 1920-х гг. неповинен. Также спорным представляется утверждение о том, что в то время врач приравнивался к буржуазии и вытеснялся из общественной жизни. Один из самых распространенных медицинских лозунгов тех лет звучал так: «Нам нужен врач-общественник».
Другое дело, что врачи, как и медицинская профессура «старой школы», не просто и не быстро входили в новые советские реалии. Поэтому и новая власть не всем и не всегда доверяла. Многие из врачей, в том числе члены Российского общества Красного Креста (РОКК) – самой крупной в 1917 г. общественной организации Российской империи – настороженно, а то и враждебно встретили приход большевиков к власти18. Некоторые ученые-медики, не принявшие Советскую власть, покинули страну. Однако доля врачей среди русских эмигрантов по сравнению с представителями других профессий была незначительна и составляла около 1 %19.
Нельзя не разделить переживаний автора по поводу преследований и репрессий советского карательного аппарата по отношению к врачам. Но в то же время явно лишним в книге выглядит сюжет о Русском психоаналитическом обществе, относящийся совсем к другой проблеме, связанной с разгромными кампаниями в советской науке, но никак не привязанный к заявленной теме монографии.
В заключение отметим, что книгу отличает хороший литературный язык, образность изложения, оригинальность трактовок, хорошее знание русской художественной литературы, явно видимое неравнодушие автора к тому, о чем она пишет. Несмотря на ряд спорных моментов, книга Н.А. Мироновой «Ярославль в кольце эпидемий: революционная повседневность в провинции» раскрывает малоизученные страницы истории здравоохранения в Ярославской области, удачно дополняя исследования по истории эпидемий в Советской России и повседневности в российской послереволюционной провинции.
Список литературы Медицинские зарисовки ярославской послереволюционной повседневности
- Миронова Н.А. Ярославль в кольце эпидемий: Революционная повседневность в провинции. Ярославль, 2012.
- Ярославская ГубЧК: Начало пути: Сборник документов и материалов по истории органов государственной безопасности Ярославской области. Т. 1: 1917-1919 гг. М., 2010. С. 216.
- Государственный архив Ярославской области. Ф. Р-3456. Оп. 1. Д. 11. Л. 5.
- Ерегина Н.Т. Медицинский факультет Ярославского университета: несостоявшаяся судьба (1919-1924 гг.) // Новый исторический вестник. 2009. № 3 (21). С. 21.
- Государственный архив Ярославской области. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 43. Л. 133.
- Беляев В.И. Здравоохранение Ярославля в прошлом и настоящем. Ярославль, 1961. С. 59, 60.
- Ерегина Н.Т. От борьбы с эпидемиями к оздоровлению труда и быта//История в подробностях. 2013. № 4. С. 31-32.
- Смирнова Е.М. Здравоохранение в земский период: взаимоотношения органов власти и общественного самоуправления//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: Вопросы теории и практики. 2014. № 7. Ч. 2. С. 179-183.
- Ерегина Н.Т. Ярославская медицинская академия: От истоков до наших дней. Ярославль, 2013. С. 560.
- Голотик С.И., Ипполитов С.С. Российское общество Красного Креста (1917-30 гг.) // Новый исторический вестник. 2001. № 2 (4). С. 238.
- Ипполитов С.С. Российская эмиграция и Европа: Несостоявшийся альянс. М., 2004. С. 22.