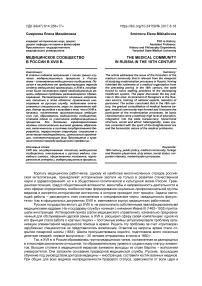Медицинское сообщество в России в XVIII в
Автор: Смирнова Елена Михайловна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье поднята актуальная с точки зрения изучения модернизационных процессов в России тема - становление медицинского сообщества. Получив в наследство от предшествующего периода зачатки медицинской организации, в XVIII в. государство было поставлено перед необходимостью решать кадровые проблемы развивающегося здравоохранения. Рассматриваются основные направления политики в этой области: привлечение иностранцев на русскую службу, подготовка отечественных специалистов, меры по закреплению кадров. Автор приходит к выводам о том, что в XVIII в. началась постепенная кристаллизация медицинских сил, образовалось медицинское сообщество, ставшее одним из участников модернизационных процессов. Его базовыми характеристиками названы относительно высокий уровень образования, включенность в систему государственной бюрократии, иерархическая структура, социальная и этническая неоднородность, ценностные ориентации, соответствующие духу Просвещения и гуманистической природе медицинской профессии.
Xviii век, государственная политика, медицинское сообщество, иностранные и русские медики, служебный статус, общественное положение, корпоративные интересы, модернизационные процессы
Короткий адрес: https://sciup.org/14941383
IDR: 14941383 | УДК: 94(47):614.2586179 | DOI: 10.24158/fik.2017.8.18
Текст научной статьи Медицинское сообщество в России в XVIII в
Смирнова Елена Михайловна
Корпусу медицинских работников, одному из наиболее многочисленных отрядов российской интеллигенции, принадлежат исторические заслуги не только в развитии отечественной науки и здравоохранения, но и в общественно-политической и культурной жизни России. Гражданская позиция, градус общественной активности, масштабы и направленность деятельности в этих сферах определялись особенностями формирования социально-профессиональной группы медиков и конкретно-историческим контекстом, в котором проходил этот процесс. Задача настоящей работы – рассмотреть этап становления и специфические черты «медицинского факультета» (так в официальных документах XVIII в. именовался корпус медицинских работников).
Русское государство вплоть до XVIII в. не располагало собственными квалифицированными медицинскими кадрами. На «государеву службу» начиная с княжения Ивана III (1462–1505) приглашали иностранцев. Аптекарский приказ (орган медицинского управления), изначально предназначенный для обслуживания царской семьи, в ХVII в. расширил сферу своей компетенции: одной из его функций стала забота о «ратных людях» – постоянные войны актуализировали проблему организации элементарной медицинской помощи в армии. Решить эту проблему за счет «приговора» зарубежных специалистов не представлялось возможным. Ответом на запросы армии стало открытие лекарской школы (1654). Школа просуществовала недолго, подготовила всего несколько десятков лекарей, первые выпускники – 30 человек отправились в полки в 1660 г.
Так, в XVII в. в России образовалась группа медицинских чинов, составленная из разнородных в этноконфессиональном отношении, по образовательному уровню и социальному статусу элементов. Высшие ступени в медицинской иерархии занимали выходцы из стран Европы – выпускники университетов. Они заложили основание придворной медицинской службы. Русские, прошедшие обучение под руководством докторов медицины – иностранцев, составили костяк военных медиков. При общих для всех медиков неопределенности правового статуса, зависимости от воли царя и администрации, иностранцы находились в гораздо более выгодных условиях: их профессионализм щедро оплачивался, тогда как русские не могли рассчитывать на материальное благополучие.
В XVIII в. предметом первостепенной заботы правительства стало медицинское обеспечение армии и флота, что предполагало решение кадрового вопроса. В течение всего столетия потребность в квалифицированных специалистах по-прежнему в значительной мере удовлетворялась за счет приглашения на русскую службу медиков из европейских стран. Петр I принял на русскую службу около 150 врачей, в том числе более 40 докторов медицины [1, с. 140].
С целью привлечения специалистов из-за рубежа в 1702 г. от имени царя был издан манифест «О вызове иностранцев в Россию…». Основные положения манифеста сводились к следующему: иностранцам предоставлялось право свободного въезда и выезда, выхода в отставку, были обещаны свобода вероисповедания и юридическая защита [2, с. 192–193]. Врачи-иностранцы служили по контрактам от двух лет и более. Выгодные условия русской службы способствовали тому, что многие работали в России долгие годы или оставались навсегда. Поощрялась натурализация. В 1747 г. был утвержден текст клятвенного обещания для иностранцев, желающих присягать на «вечное российское подданство» [3, с. 748–749]. Принявшие российское подданство продолжали службу на общих с русскими основаниях, перед ними открывалась перспектива карьерного роста. Переход в православие военнослужащих, включая медиков, поощрялся повышением в чине [4, с. 571].
В течение XVIII в. сфера приложения труда специалистов медицинского профиля значительно расширилась. Началось формирование гражданской отрасли здравоохранения: в «знатных городах империи», а затем и в уездах вводились врачебные должности. Дефицит кадров, однако, не позволял заполнить эти вакансии. Появились карантинные и заводские врачи, началось формирование преподавательского корпуса медицинских учебных заведений.
Прогресс медицинского дела диктовал необходимость подготовки национальных кадров: иностранные врачи дорого обходились казне, их знания не всегда удовлетворяли предъявляемым требованиям. В 1707 г. открылась госпитальная школа в Москве, в 1733 г. – в Петербурге и Кронштадте. В школы Петербурга и Кронштадта шли почти исключительно дети обосновавшихся в Петербурге иностранцев, а также лица, приехавшие в Россию в поисках заработка и выбравшие медицину как сравнительно выгодную профессию. В московскую школу чаще поступали дети священников и разночинцы. Сенатский указ «О вызове студентов из семинарии для обучения в казенных госпиталях и аптеках» (1754) предусматривал «самоохотно к наукам прилежащих» обучать медицине на казенный счет и «оказывать пред чужестранными преимущество» в продвижении по службе и награждении [5, с. 37]. В дальнейшем школы комплектовались преимущественно семинаристами. В 1786 г. госпитальные школы были преобразованы в медико-хирургические училища, а в 1798 г. на базе училищ созданы Петербургская и Московская медико-хирургические академии. С 1765 г. врачей готовило медицинское отделение Московского университета.
Для «усовершенствования в науке» и получения «докторского градуса» – высшей ученой степени – наиболее способную молодежь посылали в европейские университеты на казенный счет или на средства благотворителей. Обучаясь за границей, русские врачи не только совершенствовались в науке, но и усваивали европейские культурные ценности, собирали информацию о постановке медицинского дела и медицинского образования в Лондоне, Париже, Лейдене и других научных центрах, знакомились с медицинским бытом.
Статус врача в служебной иерархии определялся его чином. С введением Табели о рангах (1722) классные чины присваивались врачам по «армейскому и флотскому штатам» [6, с. 486– 488]. В 1762 г. для врачей, служивших по гражданскому ведомству, были определены классные чины в зависимости от их ученой степени и должности [7, с. 57–58]. Таким образом, на всех медицинских служащих распространялся общий порядок чинопроизводства в соответствии с уровнем образования, стажем работы в должности, качеством исполнения служебных обязанностей, особыми заслугами. Должность архиатра (главы медицинской администрации) соответствовала чину V класса. Доктора медицины и штаб-лекари (старшие полковые врачи) могли быть произведены в чин VIII класса, лекари (официальное звание врача до 1917 г.) – в чин Х–ХII класса. Чины присваивались только российским подданным, повышение зависело в большей степени от выслуги и менее – от заслуг.
Производство в классные чины повышало престиж профессии и социальный статус врачей. Чиновники первых восьми классов имели право быть «причисленными» к потомственному дворянству. Такая перспектива, разумеется, была привлекательна для медиков – выходцев из непривилегированных сословий.
Несмотря на чины и достаточно высокий образовательный статус, медицинские чины в военной среде уважением не пользовались. Лекари часто подвергались насилию. Архиатру И. Фишеру доносили: «…Штаб-офицеры оных лекарей хотят иметь во всем в своей команде… и их по своим изволям штрафуют и безчестят… а иные от Штабов обиженные служить более не хотят».
В связи с жалобами Анна Иоанновна в 1737 г. подписала указ, запрещавший воинским начальникам употреблять в частные услуги полковых лекарей под угрозой штрафа [8, с. 28–29]. Телесные наказания медицинских чинов в армии были циркулярно запрещены только в 1798 г. [9, л. 59].
С точки зрения русского дворянина – и офицера, и штатского, лекарь занимался «черной» работой, что давало повод относиться к нему по-барски высокомерно. Восприятие врача и медицинской профессии в русском обществе XVIII в. вообще неоднозначно. С одной стороны, врач – носитель передового знания, которое высоко ценилось культурной элитой. Вместе с тем и в просвещенных кругах сохранялось недоверие к рациональной медицине. Ближайший сподвижник Екатерины II, философ Г.Н. Теплов, например, писал: «Врача к больному с наукою пустить бедственно… стократно больше опасности от него, нежели помощи от его науки» [10, с. 38]. В массовом же сознании профессия врача как носителя «тайного знания» нередко связывалась с преступлениями против религии. Еще большее недоверие вызывали врачи-европейцы как иностранные подданные, представители иной культуры, не говорившие по-русски, как «еретики».
Медицина была для России XVIII в. новым, непривычным делом. Вместе с тем забота о «народном здравии» являлась частью стратегии модернизации страны, отвечала ее национальным интересам. В соответствии с политическими понятиями века Просвещения с деятельностью государства связывалась идея общественного блага. «Закон естественный повелевает нам по силе нашей о благополучии всех людей пещися», – провозглашала в «Наказе» Екатерина II. И далее: «Надлежит попечение иметь о здравии граждан» [11, с. 24, 166–167].
Правительство стремилось закрепить медицинские кадры материальной поддержкой (весьма, правда, скромной) учащихся и специалистов – повышением жалованья и наградами, чинопроизводством. Применялись и запретительные меры. В 1754 г. был издан сенатский указ «О бытии лекарям и аптекарям, обучающимся в России, всегда в их настоящем звании; и о не-дозволении им избирать другой род службы» [12, с. 26–27]. Согласно сенатскому указу 1758 г. выплата пенсии вдовам медицинских чиновников зависела от дачи ими письменного обязательства об определении своих сыновей по медицинской части [13, с. 254]. Стремление власти лишить медицинских служащих и их детей права выбора рода деятельности, запрет низшим медицинским чинам (подлекарям и лекарским ученикам) вступать в брак [14, с. 376] (отменен в 1775 г.) свидетельствуют о том, что государство получало право не только на труд, но и на личность чиновника, что особенно явно сказывалось на положении рядового медицинского персонала.
Медики – государственные служащие – от государства ожидали улучшения экономического положения и повышения социального статуса. Экономическая несамостоятельность медицинских служащих ставила их в зависимое от власти положение, гарантировала политическую лояльность и законопослушание. Происходила консолидация медицинских служащих вокруг властных структур на основе осознания единства групповых интересов, связанных с материальным благосостоянием, карьерным ростом, получением привилегий и т. д. Вместе с тем европейски образованные врачи представляли для государства ценность не только как профессионалы, на подготовку которых затрачены значительные средства, но и как проводники европейской культуры, агенты модернизации. Поэтому не случайны внимание и покровительство медицине монаршей власти, особенно в царствование Петра I и Екатерины II.
Единение медицинских служащих и государства достигалось через осознание врачом своих гражданских обязанностей, через «служение государственному интересу» – нравственный императив века Просвещения. Гражданское служение врачей проявилось в участии в организации военной медицины и гражданского здравоохранения, создании системы медицинского образования, борьбе с эпидемиями, закладывании фундамента самостоятельного развития отечественной медицинской науки. Важнейшая составляющая стратегии реформ медицинского дела и привлекательная для врачей сфера общественной деятельности – популяризация медицинских знаний, санитарное просвещение, участие в работе Вольного экономического общества, первого научного общества (1765).
В течение XVIII в. численность медицинского персонала возросла в 10 раз. По данным на 1803 г., в России насчитывалось 1 627 врачей, из них 506 служили в армии и 221 – во флоте [15, с. 57]. «Медицинский факультет» был многонациональным и пестрым по социальному составу. Иностранные врачи – выходцы из купечества, духовенства, семей военнослужащих, чиновников, небогатых дворян, а также потомственные медики. Русские лекари, как правило, принадлежали духовному сословию.
Врачи «из иностранцев» количественно преобладали над русскими, но процентное соотношение между русскими и иностранцами постепенно менялось в пользу первых. В 1740 г. в армии было только 3 % русских врачей, к концу XVIII в. русские военные врачи в целом составляли 55 %, в армии – 60 %, во флоте – 48 % [16, с. 421]. Среди иностранцев были англичане, голландцы, французы, итальянцы, поляки и др., но большинство принадлежало немцам: выходцам из Германии, балтийским немцам (из вошедших в состав России в начале столетия территорий Прибалтики) и обрусевшим немцам. В XVIII в. Германия дала России 175 докторов медицины из 500 (35 %) [17, р. 38].
Этническая гетерогенность «медицинского факультета» порождала внутригрупповой антагонизм. Иностранцы часто занимали важные посты, невзирая на отсутствие опыта, незнание русского языка, традиций общественной и культурной жизни. Они стремились удержать за собой монополию в медицинском деле, престижные и доходные должности, препятствовали развитию медицинского образования, профессиональному и служебному росту русских врачей.
Врачи с ученой степенью назначались на должность не ниже дивизионного доктора или на руководящие должности в генеральные госпитали. Кроме того, они заполняли штаты придворных медиков и высшей медицинской администрации. Все члены Медицинской коллегии (орган медицинского управления в 1763–1803 гг.) первого состава были иностранцами [18, с. 172]. Они, как отмечает английский исследователь Дж.Т. Александер, конфликтовали с ее президентом бароном А.И. Черкасовым [19, р. 45]. Впервые русский вошел в коллегию в 1785 г.
Многие члены коллегии с неудовольствием восприняли указ Екатерины II о праве этого учреждения присуждать докторскую степень (1764), «упорно отвергали мысль, чтоб русский лекарь мог быть допущен к докторскому экзамену внутри России или чтобы русский человек мог быть признан доктором медицины без признания этой ученой степени в каком-либо иностранном медицинском факультете» [20, с. 432]. Московский штадт-физик (врач, возглавлявший физикат, орган медицинского управления в Москве и Петербурге) А. де Тейльс был яростным противником московской госпитальной школы. Он доказывал, что школа бесполезна, что русские вообще не способны к серьезному образованию, что лучше ежегодно выписывать необходимое число лекарей и подлекарей из-за границы и платить им хорошее жалованье [21, с. 78].
Родившиеся в России считались «природными россиянами», но этническая разобщенность давала о себе знать и в XIХ в. Так, в 1819 г. было организовано Общество немецких врачей в Санкт-Петербурге, а в 1833 г. – Общество русских врачей в Санкт-Петербурге. В Петербургской медикохирургической академии до 1860-х гг. существовало расслоение на «русскую» и «немецкую» партии.
В медицинском сообществе действовали как центробежные, так и центростремительные силы: с одной стороны – этноконфессиональные, культурные, языковые различия, соперничество на служебном поприще, с другой – общие материальные и профессиональные интересы, «привязанность» к властным структурам. Консолидации медицинских служащих способствовали повседневные практики на основе единых нормативных требований, сформулированных в законодательных актах: Воинском (1716) и Морском (1720) уставах, Генеральном регламенте о госпиталях (1735), Уставе всем ведомства Государственной медицинской коллегии докторам, лекарям и повивальным бабкам (1789) – и ведомственных инструкциях. Уставные документы, наряду с должностными обязанностями, прописывали нормы врачебной этики: врачу надлежало быть «богобоязливым, смиренным и воздержанно жить, с больными ласково и усердно обходиться». Осуждалось корыстолюбие. Был зафиксирован принцип «безмездного пособия» неимущим [22].
Таким образом, в XVIII в. началась постепенная кристаллизация медицинских сил. Из конгломерата индивидуумов образовался «медицинский факультет», медицинское сообщество, ставшее одним из участников модернизационных процессов. Его базовыми характеристиками являлись относительно высокий уровень образования, включенность в систему государственной бюрократии, иерархическая структура, социальная и этническая неоднородность, ценностные ориентации, соответствующие духу Просвещения и гуманистической природе медицинской профессии.
Ссылки:
-
1. Мирский М.Б. Медицина России Х–ХХ веков: очерки истории. М., 2005. 632 с.
-
2. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. I (1649–1825). Т. IV. № 1910. СПб., 1830.
-
3. Там же. Т. ХII. № 9434. С. 748–749.
-
4. Там же. № 9305. С. 571.
-
5. Там же. Т. XIV. № 10196. С. 37.
-
6. Там же. Т. VI. № 3890. С. 486–488.
-
7. Там же. Т. XLIV, ч. 2. № 11455. С. 57–58.
-
8. Там же. Т. Х. № 7162. С. 28–29.
-
9. Государственный архив Ярославской области. Ф. 86. Оп. 1. Д. 5. Л. 59.
-
10. Теплов Г.Н. Рассуждение о врачебной науке, сочиненное в 1774 году. 2-е изд. СПб., 1784. 38 с.
-
11. Избранные сочинения императрицы Екатерины II / под ред. Н.С. Карпова. СПб., 1896. 192 с.
-
12. ПСЗРИ. Собр. I. Т XIV. № 10183. С. 26–27.
-
13. Там же. Т. XV. № 10872. С. 254.
-
14. Чистович Я.А. История первых медицинских школ в России : в 2 т. Т. 2. М., 2013. 480 с.
-
15. История военной медицины в России : в 4 т. Т. 3 / гл. ред. И.Ю. Быков. СПб., 2006. 687 с.
-
16. Шиминис Ю. Медицина и здравоохранение // Немцы России. Энциклопедия. Т. 2. М., 2004. С. 411–438.
-
17. Alexander J.T. Bubonic Plague in Early Modern Russia: Public Health and Urban Disaster. N. Y., 2003. 387 p.
-
18. Мирский М.Б. Указ. соч. С. 172.
-
19. Alexander J.T. Op. cit. P. 45.
-
20. Чистович Я.А. Указ. соч. С. 432.
-
21. Там же. С. 78.
-
22. ПСЗРИ. Собр. I. Т. IX. № 6852. С. 672 ; Т. XXIII. 16805. С. 79.
Список литературы Медицинское сообщество в России в XVIII в
- Мирский М.Б. Медицина России Х-ХХ веков: очерки истории. М., 2005. 632 с.
- Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. I (1649-1825). Т. IV. № 1910. СПб., 1830.
- Государственный архив Ярославской области. Ф. 86. Оп. 1. Д. 5. Л. 59.
- Теплов Г.Н. Рассуждение о врачебной науке, сочиненное в 1774 году. 2-е изд. СПб., 1784. 38 с.
- Избранные сочинения императрицы Екатерины II/под ред. Н.С. Карпова. СПб., 1896. 192 с.
- ПСЗРИ. Собр. I. Т XIV. № 10183. С. 26-27.
- Чистович Я.А. История первых медицинских школ в России: в 2 т. Т. 2. М., 2013. 480 с.
- История военной медицины в России: в 4 т. Т. 3/гл. ред. И.Ю. Быков. СПб., 2006. 687 с.
- Шиминис Ю. Медицина и здравоохранение//Немцы России. Энциклопедия. Т. 2. М., 2004. С. 411-438.
- Alexander J.T. Bubonic Plague in Early Modern Russia: Public Health and Urban Disaster. N. Y., 2003. 387 с.
- ПСЗРИ. Собр. I. Т. IX. № 6852. С. 672; Т. XXIII. 16805. С. 79.