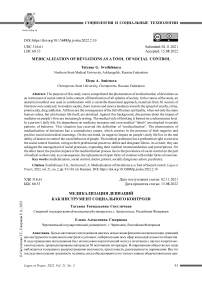Медикализация девиаций как инструмент социального контроля
Автор: Светличная Татьяна Геннадьевна, Смирнова Елена Алексеевна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социология и социальные технологии
Статья в выпуске: 2 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Целью настоящего исследования явилось осмысление феномена медикализации девиаций как инструмента социального контроля в условиях либерализации всех сфер жизнедеятельности общества. В ходе проведения исследования был использован аналитический метод в сочетании с научно-теоретическим подходом, проанализированы материалы 56 источников литературы. В современном обществе все чаще наблюдается тенденция к распространению жестокости, преступности, распущенности, наркомании. Все это последствия падения духовности человека, когда обесцениваются не только главные общечеловеческие ценности, но и сама человеческая жизнь. На этом фоне все чаще возникают дискуссии о влиянии медицины на жизнь людей. На подсознательном уровне формируется медицинский стиль мышления. В повседневной жизни человека возрастает его зависимость от медицины и даже происходит закрепление медицинских «ярлыков» за некоторыми паттернами поведения. Такая ситуация получила определение «медикализации». Феномен медикализации девиаций имеет противоречивую природу, заключающуюся в наличии как негативного, так и позитивного социального и медицинского смыслов. С одной стороны, его негативное влияние на повседневную жизнь людей заключается в реальной возможности врачей контролировать социальное поведение людей. Представители медицинской профессии обладают преимущественным правом на осуществление функции социального контроля, вследствие имеющихся у них профессиональных полномочий определять и обозначать болезнь. В результате они могут подчинять себе управление социальными процессами, расширяя свои медицинские рекомендации и назначения. С другой стороны, положительное влияние процесса медикализации заключается в преобладании социального контроля со стороны медицинских работников и как следствие - замещение открытых форм насилия на более мягкие формы принуждения.
Медикализация, социальный контроль, врач, пациент, социально опасное действие, психиатрия
Короткий адрес: https://sciup.org/149141528
IDR: 149141528 | УДК: 316.61 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2022.2.10
Текст научной статьи Медикализация девиаций как инструмент социального контроля
DOI:
Цитирование. Светличная Т. Г., Смирнова Е. А. Медикализация девиаций как инструмент социального контроля // Logos et Praxis. – 2022. – Т. 21, № 2. – С. 91–103. – DOI:
Постановка проблемы
В современной культурной парадигме, основанной на постмодернистской системе мышления, отрицающей истинность философских теорий и универсальность нравственных и культурных принципов, рассматривающей социальные институты как насилие над свободно мыслящей личностью, человек перестает быть высшей ценностью, а его жизнь – высшим благом [Реймер 2014, 16]. Тенденция к дегуманизации в либеральном обществе, проявляясь в широком распространении жестокости, преступности, распущенности, наркомании – последствий падения духовности человека, обесценивает не только главные общечеловеческие ценности, но и саму человеческую жизнь. «Потому что без бога да на свободе – ух чего можно в одночасье натворить» [Леонов 2013, 91]. Либерализация политической, экономической и социальной сфер жизни общества сопровождается сокращением круга действия или отменой запретительных, карательных и репрессивных законов и ограничений, то есть уменьшением масштабов государственного контроля над отдельной личностью, социальными группами и обществом в целом, с одновременным усилением социального контроля. При этом традиционные формы социального контроля (религия, община, брак, семья) заменяются социальным контролем медицины.
В либеральном обществе объективность понятия адекватности поведения все чаще за- меняется формулой «на Ваше усмотрение», подразумевающей наличие у человека права на самостоятельное определение нормы и патологии. В таких условиях одной из особенностей современного образа жизни становится расширение границ нормативного поведения в сторону девиаций и психической патологии [Менделевич 2015а, 84]. В результате в обществе наблюдается появление двух параллельных тенденций. Первая тенденция заключается в увеличении числа лиц, психологические особенности которых становятся причиной возникновения конфликтов [Короленко, Дмитриева 2009, 248]. Вторая тенденция состоит в постоянном увеличении перечня психических заболеваний: гемблинг, интернет-аддикция, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, биполярное аффективное расстройство, расстройство аутистического спектра и др.
Расширение границ нормативного поведения в современном либеральном обществе, с одной стороны, делает актуальным пересмотр методов диагностики со снижением количества регистрируемых психопатологических явлений, в то время как с другой, наблюдается четко выраженная тенденция к увеличению числа психиатрических и наркологических диагнозов. За последние 70 лет их число увеличилось почти в три раза. Так если в первой классификации психических расстройств (1952) содержалось 106 диагнозов, то в новых классификациях – 297 и 282 соответственно. Тенденцию к увеличению числа диагнозов одни ученые [Менделевич 2000, 167; Менделевич 2004, 518; Менделевич 2010а, 24; Менделевич 2010б, 98; Менделевич 2010в, 97; Менделевич 2016, 10; Савенко 1996, 55] объясняют нарастающим процессом психопатоло-гизации (психиатризации) феноменов обыденной жизни и необходимостью выделения в связи с этим новых поведенческих расстройств в разряд классифицируемых по DSM. Другие считают этот факт результатом продолжающегося процесса институализации психиатрии, суть которого заключается в помещении за границы нормальности ранее существовавших явлений повседневной жизни посредством обозначения их диагнозами [Великанова 2017, 58; Фуко 2006, 79]. И в том, и в другом случае придание этим явлениям статуса ненормального через диагностирование существенно расширяет поле контролируемых психиатрией явлений, подвергая их процессу медикализации.
Целью настоящего исследования явилось осмысление феномена медикализации девиаций как инструмента социального контроля в условиях либерализации всех сфер жизнедеятельности общества. В ходе проведения исследования был использован аналитический метод в сочетании с научно-теоретическим подходом, проанализированы материалы 56 источников литературы.
Результаты и их обсуждение
Одним из главных предназначений социальных норм и ценностей общества является блокировка деструктивных действий его членов. Любое поведение, отклоняющееся от нормы, называют девиантным [Салтыкова-Волкович 2016, 24].
Социальная девиация или девиантное поведение – это «поведение человека, отклоняющееся от общепринятых, социально одобряемых и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный период их развития» [Тарутина, Хабибулин web]. Ученые сообщают о «существовании наряду с традиционными видами аддиктивного поведения (алкоголизмом, наркотической зависимостью, проституцией) новых его разновидностей (телефонной, поведенческой, пищевой, Интернет и игровой)» [Мкртычева 2015а, 51; Мкртыче- ва 2015б, 108]. Информационная эволюция общества и становление общества потребления, нарушение социализации личности [Тарутина, Хабибулин web] называются в качестве основных причин их появления.
М.В. Салтыкова-Волкович [Салтыкова-Волкович 2016, 25] девиантное поведение рассматривает с точки зрения: 1) наличия у человека психопатологии или 2) отклонения от морально-нравственных норм. В.В. Ковалев определил три типа возникновения девиаций: «социально-психологические, клинико-психопатологические и личностно-динамические» [Ковалев 1981, 608]. Ф. Патаки в качестве ядра девиантного поведения выделил алкоголизм, наркоманию, проституцию и преступность. Преддевиантный синдром, предвещающий отклоняющееся поведение, по мнению автора, включает в себя «аффективное поведение, семейные конфликты, агрессивное поведение, низкий уровень интеллектуальных способностей и др.» [Патаки 1987, 102].
Н.В. Майсак классифицирует все формы девиаций «по характеру направленности и проявления и по степени социального одобрения» [Майсак 2009, 167]. Так, Ц.П. Короленко и Т.А. Донских наряду с деструктивным поведением выделяют поведение, оказывающее конструктивное влияние на развитие общества [Короленко, Донских 1990, 224], а Ю.А. Клей-берг добавил социально-нейтральные девиации, обеспечивающие повышение материальных доходов, не нарушая общепринятых норм. В качестве примера автор приводит такую форму девиации как попрошайничество [Клей-берг 1997, 146].
Основоположник современной девианто-логии французский социолог Эмиль Дюркгейм (1858–1917) изучал проблемы социальной дезорганизации, социальных патологий, преступности, социального контроля, социальной интеграции. Несоответствие целей человека и средств их достижения приводит к разрушению социальных и моральных норм, а также социальных связей. Такое состояние общества Э. Дюркгейм определил как аномия, способствующее дезорганизации людей и нарушению общественного порядка. Как следствие, повышается уровень социальных девиаций [Дюркгейм 1994, 399]. Однако вместе с отрицательной оценкой отклоняющегося поведения автор выделяет и его положительное значение. Подтверждая роль социальных норм, девиации способствуют их совершенствованию. При этом большая роль в регулировании поведения личности отводится коллективному сознанию. В случае угрозы национальным ценностям и идеалам общество объединяется и «чем больше коллективное сознание регламентирует социальную жизнь общества, тем теснее связь индивида с группой. Аномия свидетельствует о нарастающей угрозе – заболевании общественного организма» [Парсонс 1998, 18].
Толкотт Парсонс (1902–1979), оценивая значение норм, отмечал их социально-регулятивную функцию и императивный характер. Социальные нормы конкретизированы к эталонной ситуации. Ученый определял аномию как «состояние дезорганизации, при котором нормы, призванные координировать индивидуальное поведение, разрушены» [Парсонс 1998, 18]. Социальные и экономические инновации влекут за собой все большее возникновение норм: «Люди не успевают привыкнуть к одним нормам, как рождаются другие» [Добреньков, Кравченко 2005, 26].
Теория аномии Э. Дюркгейма получила дальнейшее развитие в работах Р. Мертона (1910–2003). Причину девиантного поведения ученый видел в «существовании объективного противоречия между целями индивидуального развития, на которых общество сосредоточивает свое внимание, и практическими средствами их достижения, которые имеются у личности согласно социальному положению в обществе» [Мертон 2006, 880]. Определяя типы девиантного поведения, основывался на двух критериях: приверженность культурным целям и средства достижения целей [Мертон 2006, 359].
Социальный контроль посредством санкций обеспечивает единство поведения членов общества с социальными предписаниями и регулирует различные сферы его жизнедеятельности. Р.Э. Парк (1864–1944), Э. Берджес (1886–1966) и Э. Хьюз (1897–1983) считали, что социальный контроль «никогда не может обеспечить постоянное состояние равновесия в обществе», но «всегда действует таким образом, чтобы привести тот или иной конфликт к соглашению и подчинить индивидов необходимым требованиям социального порядка»
[Козер 2006, 277]. Как следствие влияние социального контроля на индивида способствует росту диванного поведения в обществе.
Представителями теории стигматизации являются И. Гофман (1922–1982) и Г. Беккер (1930–2014). Наибольшую популярность теория обрела в середине XX в., согласно которой влиятельные социальные группы (законодатели, судьи, врачи и пр.) могут ставить «клеймо девиантов» членам менее влиятельных групп общества. Общество, принимая правила, нарушение которых составляет отклонение от нормы, сами создают девиантность. Отклонение от нормы является лишь субъективной общественной оценкой, а наклеивание «ярлыков» создает условия к дальнейшему девиантному поведению. По мнению Э. Лемерта (1912–1996) и Г. Беккера, такой индивид воспринимается как неудачник, другие члены общества нередко его опасаются и осуждают. Все это может способствовать усилению агрессии, преступному поведению, формированию аддикций и суициду [Шестаков 2006, 561]. Поэтому ««невозможно «искоренить», «ликвидировать», «преодолеть» негативное девиантное поведение и отдельные его виды» [Глинский 2009, 143; Лилюхин и др. 2019, 200]. Формы социального контроля ограничивающие негативное проявление «целесообразны с позиций адекватности природе и происхождению аддиктивного поведения» [Чернобровкина 2015, 64].
Элиот Фрейдсон (1923–2005) существенно дополнил имевшиеся научные представления о смысле социального контроля, осуществляемого психиатрией. Ученый охарактеризовал ее как «моральное действие, разграничивающее патологические поступки людей на две основные группы: за одни из них следуют меры юридического характера, за другие – медицинского» [Freidson 1970, 410]. При этом «в одни времена общество такие поступки криминализирует, в другие, определив болезнью, лечит, в третьи, воспринимая нормой, легализует» [Светличная, Смирнова 2017, 148], но «даже и в этом случае психиатрия сохраняет за собой функцию социального контроля». Так, например, «отказ психиатров считать гомосексуальность болезнью не привел к полной демедикализации этого состояния» [Conrad 2007, 200], которое до середины про- шлого столетия было включено в перечень психической патологии. Основанием для постановки диагноза становится сам факт неадекватного поведения, а людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией принудительно госпитализировали и лечили в психиатрическом стационаре. Изменение общественного мнения переориентировало и психиатрический взгляд на проблему. В настоящее время «сама по себе ориентация по полу не рассматривается в качестве расстройства» [Психические расстройства... web], которым признается лишь то, что «пациент страдает от сомнений в собственной половой принадлежности или ориентации по полу, что приводит к тревоге или депрессии» [Психические расстройства... web].
И. Гофман выделял следующие виды отклонений девиантов [Шестаков 2006, 561]: а) физические; б) психические недостатки; в) расовые, этнические, религиозные особенности; г) моральный и статусный облик.
В процессе социального взаимодействия человек приобретает знания, взгляды, принципы, усваивает правила поведения одобряемые обществом. Когда это соответствие нарушается, ослабевают привязанности индивида к социальным связям, возникает девиация. Теория социального контроля Трэвиса Хирши (1935–2017) [Hirschi 2002, 329] предполагает, что большинство людей предрасположены к девиантному поведению, но их привязанность к социальным группам сдерживает их отклоняющееся от нормы поведение. Р. Бэрон (1943) и Д. Ричардсон (1941) в качестве основных источников девиации определяют семью, опыт взаимодействия с окружающими и масс-медиа. При взаимодействии с людьми индивид также познает и ценности, и методы преступного сообщества. По мнению авторов теории (Эдвина Х. Сазерленда (1883–1950) [Sutherland, Cressey, Luckenbill 1992, 696], А. Бандура (1925– 2021) [Бандура 2000, 320], Р. Бэрон, Д. Ричардсон [Бэрон 2001, 352]), общаясь с преступником человек, учится ценить девиацию. Причем вероятность проявления отклоняющегося от нормы поведения зависит от частоты, продолжительности и интенсивности их взаимодействия. Изменение условий может предотвратить формирование девиации.
Биологическая теория Ч. Дарвина (1809– 1882) и его последователей Р. Фишера (1943–
2008) и Дж. Миллера (1920–2012) обосновывает потребность деструктивного взаимодействия в обществе для обеспечения репродукции при ограниченности ресурсов в популяции в условиях «недостатка пищи или дефиците брачных партнеров» [Шатыр и др. 2017, 137].
Автор биосоциологической теории Цезаре Ломброзо (1835–1909) опираясь, на положения дарвинизма, предположил о «существовании связи между преступным поведением человека и его биологическими особенностями» [Ломброзо 2005, 149]. Выделенным им внешние особенности и психологические характеристики позволили описать «криминального типа человека». Появилась возможность «идентифицировать преступника до совершения им правонарушения. Это выступающая нижняя челюсть, низкий лоб, взгляд исподлобья, сплющенный нос, большие челюсти, пониженная чувствительность к боли» [Ломб-розо 2005, 264]. Для них характерны «болезненные влечения и сильные эмоции, подавленность нравственных чувств, которые заставляют их, при соответствующих обстоятельствах, совершать преступления» [Ломброзо 2005, 264]. Позже учение о прирожденном преступнике подверглась критике, а репутация ученого серьезно пострадала после использования его идей нацистами.
Представители социально-психологической теории формирования отклоняющегося от норм поведения (К.Р. Бэрон (1832–1906), З. Фрейд (1856–1939), К. Хорни (1885–1952), Э. Фромм (1900–1980), Д. Ричардсон (1941), И.А. Фурманов (1960)) объяснили этот феномен неустойчивостью психики, фрустрацией, тревогой, авторитаризмом, подстрекательством со стороны окружающих, агрессией [Бандура 2000, 320; Бэрон 2001, 352], «расторможен-ностью влечений, низким уровнем эмоционально-волевого контроля» [Рычкова 2000, 96]. К. Лоренц (1903–1989) оправдывая агрессивное поведение, выдвинул гипотезу о наделении человека не только врожденным инстинктом борьбы, но и способностью подавлять свои агрессивные побуждения [Лоренц 1994, 219].
Обсуждение и выводы
Теория стигматизация нашла свое продолжение и в наши дни, когда все чаще гово- рят о распространении в обществе феномена медикализации. Суть этого процесса заключается в том, что любое состояние или поведение специалистами трактуется как медицинская проблема, врачам присваивается функция социального контроля, происходит закрепление медицинских «ярлыков» за некоторыми человеческими свойствами или типами поведения, что способствует манипулированию социальными ролями индивида, создавая в обществе дополнительные риски. Так, разработка диагностических классификаций психических и поведенческих расстройств (МКБ, DSM) происходит на основе учета сложившихся в обществе устойчивых представлений о норме и отклонении от нее.
Вместе с тем недостаточная четкость и достоверность, например, диагностических критериев поведенческих расстройств и девиаций поведения способствует расширению полномочий медицинских работников, усиливая медикализацию нехимических аддикций. Ситуация усугубляется частым сочетанием нехимических зависимостей с другими психическими заболеваниями. Это могут быть аффективные, обсессивно-компульсивные расстройства, расстройства личности, неврозы и химические зависимости.
Поскольку аддиктивность определяется как «навязчивая потребность в повторении определенных действий, сопровождающаяся явно выраженными физиологическими и психологическими отклонениями, нетривиальным поведением и прочими нарушениями психики», постольку ее коррекцией занимается медицина, а именно психиатрия и наркология. Начало социального конструирования реальной действительности связано с постановкой психиатрического диагноза, который ставится на основании наличия у человека психопатологических симптомов [Менделевич 2016, 11]. По мнению ученых [Атаджыкова, Ениколопов 2015, 77; Pinna et al. 2015, 5], до сих пор в психиатрии сохраняется «недостаточная научная убедительность процедуры причисления психических и поведенческих феноменов к кругу болезненных и включение их в диагностические системы» [Менделевич 2017, 5]. Объективная составляющая проблемы диагностики в психиатрии, заключающаяся в невозможности подтверждения симпто- мов с помощью инструментально-лабораторных методов [Дмитриева 2012, 622; Лебедева и др. 2013, 234]. Субъективная составляющая состоит в расхождении оценочных суждений большинства психиатров в отношении диагностических критериев психических и поведенческих расстройств [Freedman et al. 2013, 2]. В действительности для постановки психиатрического диагноза часто является достаточной произвольная интерпретация поведения человека как выходящего за рамки социальных норм общества [Менделевич 2019, 52]. Все это способствует расширению полномочий медицинских работников, усиливая медикализацию нехимических аддикций [Менделевич 2015б, 12]. В результате существенно возрастает зависимость повседневной жизни людей от психиатрии. Она заключается в возможности закрепления психиатрических «ярлыков» за поведением людей и их последующей стигматизацией, ведущей к ограничению к общественной жизни.
В отечественной научной литературе термин «медикализация» стал применяться с начала 2000-х годов. Однако его научное философское и медицинское осмысление началось в 1990-х гг. с развитием наук социология медицины и биоэтика. Особое научное направление в рамках развития этих научных дисциплин составили исследования правовых и этических аспектов оказания психиатрической помощи, одной из особенностей которой является патерналистская модель взаимоотношений врач-пациент. В существующей психиатрической практике поставленный психиатром диагноз не может быть оспорен пациентом, его родственниками или обществом. Психиатрическая власть, заключающаяся в праве психиатра на постановку психиатрического диагноза, простирается далеко за пределы медицины, обусловливая стигматизацию больного и закрепляя за ним место в поле ненормальности. Рост социального контроля со стороны психиатрии обусловлен наличием устойчивой тенденции к постепенному смещению в психиатрический дискурс многих социальных явлений, не относящихся к проблематике здоровья и болезни. При этом история убедительно свидетельствует о том, что с течением времени «психиатрическая власть», значительно трансформируясь по форме, продолжает усиливаться по содержанию.
Особенно сильной психиатрическая власть была во времена СССР, когда психиатрия, ставшая «орудием борьбы с инакомыслящими, которых невозможно репрессировать на основании закона за то, что они мыслят иначе, чем это предписано» [Подрабинек 1979, 192], использовалась для подавления суждений, отличающихся от принятых в обществе и насаждаемых государством [Швачкина 2011, 72]. При этом жизненная позиция таких людей интерпретировалась как плод болезненного воображения [Виденева и др. 2015, 169], а сообщаемая ими информация подвергалась сомнению [Подрабинек 1979, 190]. Поводом для постановки психиатрического диагноза и лечения у психиатра становился широкий круг суждений: от критических высказываний о существующем политическом строе до веры в Бога и стремления уехать за границу [Швач-кина 2011, 77]. Применяемые методы психиатрического воздействия подрывали физическое и психическое здоровье инакомыслящих людей, не имея никаких медицинских показаний для назначения. Только благодаря принятию Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02.07.1992 № 3185-1 карательная психиатрия в нашей стране прекратила свое существование. Одновременно было вскрыто множество фактов злоупотреблений психиатрами профессиональной властью. В настоящее время при поступлении в психиатрический стационар больному в обязательном порядке предоставляется для подписи документ о согласии на медицинское лечение. При его отсутствии окончательное решение о принудительной госпитализации принимает суд, основываясь на заключениях врачей. Если больные представляют опасность для себя или окружающих, Закон дает медицинским работникам право связывать больных и ограничивать их передвижения. Одновременно Государственная Дума РФ приняла поправки в Кодекс административного судопроизводства РФ, закрепляющие полномочия прокурора по инициированию принудительной госпитализации граждан в психиатрические больницы. Прокурору также дано право на обращение с исковым заявлением о продлении срока принудительной госпитализации. В ре- зультате создается парадоксальная ситуация, когда медицинские работники будут вынуждены лечить пациента в случае, когда они для этого не находят медицинских оснований. Достаточной будет являться лишь инициатива прокурора, например, на основании сообщения полиции, соседей или родственников. Данная ситуация не исключает возможности злоупотребления лечением и содержанием в изоляции психически здорового человека.
Факт наличия психиатрического диагноза в криминальных ситуациях исключает возможность применения к человеку мер уголовного преследования [Петров и др. 2015, 150]. Установление психиатрического диагноза ведет к изменению социального статуса девианта. В случае совершения психически больным человеком общественно опасного деяния (ООД) и судебно-психиатрическая экспертиза (СПЭ) пришла к выводу, что он находился в состоянии невменяемости, то преступник освобождается от уголовной ответственности (ч. 2 ст. 21 УК РФ). Суд, основываясь на рекомендации СПЭ, назначает ему принудительное лечение в психиатрическом учреждении (ст. 99 УК РФ). Раз в 6 месяцев психиатрами проводится комиссия по решению вопросов о принудительном лечении и в зависимости от состояния больного принимается решение о прекращении, продлении, усилении или переводе на более щадящий режим лечения. Медицинские рекомендации излагаются в акте, направляемом в суд. Становясь пациентом, вместо социального отторжения и дискриминации он обретает статус больного человека, нуждающегося в медицинской помощи, оформлении листка нетрудоспособности и даже медико-социальном освидетельствовании для определения группы инвалидности. Вместе с тем установление психиатрами ярлыка-диагноза оборачивается для девианта стигматизацией, но уже на основании психиатрического диагноза [Менделевич 2016, 11]. Следствием является назначение психофармакотерапии и проведение диспансерного наблюдения с фактическим ограничением прав. Реализуемый в этом случае социальный контроль со стороны психиатров, способствуя исчезновению в обществе открытых форм насилия, заменяет их на более мягкие формы принуждения [Фуко 2006, 80]. Так осуществ- ляется преимущественное право психиатров по выполнению функции социального контроля, реализуемого вследствие имеющихся у них профессиональных полномочий.
Заключение
Таким образом, медикализация девиаций как инструмент социального контроля со стороны психиатрии обусловлена наличием у психиатров профессионального права на постановку диагноза, назначение специфической медикаментозной терапии и режима лечения. Однако сам факт возникновения феномена меди-кализации связан с возможностью превращения любого социально неприемлемого отклонения в болезнь, корректируемую с помощью психиатрических вмешательств [Светличная, Смирнова 2017, 150].
Основными агентами медикализации по определению являются врачи. Однако со временем их доминирующая роль несколько уменьшается вследствие существенного роста числа заинтересованных в медикализации социальных групп. В ней участвуют «фармацевтические компании, средства массовой информации, агенты страховой медицины, поставщики новых биомедицинских технологий и сами потребители их продуктов» [Светличная, Смирнова 2017, 155].
С течением времени масштабы медика-лизации значительно увеличиваются. Основной причиной является рост распространенности нарушений психического здоровья, вызванных, с одной стороны, ускоренными темпами развития научно-технического прогресса, а с другой – духовно-нравственным кризисом современного общества на фоне либерализации всех сфер жизнедеятельности. В этих условиях развитие феномена медикализации девиаций получает новые основания и стимулы [Светличная, Смирнова 2020, 62].
Особенно опасной по своим последствиям является медикализация изменений / отклонений в образе жизни и условиях жизнедеятельности современного человека, ведущая к тому, что медицинское вмешательство становится единственной логической рефлексией на них. И это несмотря на то, что причины возникшего в жизни человека когнитивного, эмоционального и поведенческого дисбалан- са, трактуемого как медико-психологическая проблема, могут являться исключительно социальными. Специфика ситуации заключается в том, что если социальный контекст жизненной проблемы человека не будет своевременно разрешен, ее медицинский аспект будет возвращаться вновь и вновь.
Феномен медикализации девиаций имеет противоречивую семантическую природу, заключающуюся в наличии как негативного, так и позитивного социального и медицинского смыслов. При этом негативный смысл ме-дикализации девиаций преобладает над позитивным. Он состоит в передаче социумом врачам-психиатрам права на решение некоторых социальных проблем, формулируемых в контексте медицинского дискурса, возможные способы реализации которых осуществляются путем лечения и профилактики, не исключая применение карательных функций. В результате существенно возрастает зависимость повседневной жизни людей от психиатрии. Она заключается в возможности закрепления психиатрических «ярлыков» за некоторыми типами девиантного поведения и их последующей стигматизацией, ограничивающие возможность полноценной общественной жизни. При этом следует учитывать тот факт, что в случаях положительных девиаций проблема заключается не в поведении человека, а в социальном отношении к нему. Поскольку для каждого человека является естественным некоторое отклонение от общепринятых норм в той или иной ситуации, и это отклонение не является свидетельством о наличии патологии. Следствием стигматизации является исключение некоторых социальных групп из нормального процесса жизнедеятельности и социального взаимодействия, ухудшение качества и потеря смысла жизни.
Положительный смысл феномена меди-кализации девиаций состоит в более гуманном отношении общества к лицам, страдающим социально опасными психическими расстройствами, путем применения к ним более «мягких форм» социального принуждения. Однако приносимое врачами психиатрами несомненное благо может легко превратиться в зло, если количество медицинских психиатрических вмешательств (из самых добрых побуждений) будет продолжать неуклонно расти.