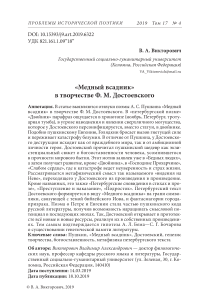"Медный всадник" в творчестве Ф. М. Достоевского
Автор: Викторович Владимир Александрович
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.17, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье выявляются отзвуки поэмы А. С. Пушкина «Медный Всадник» в творчестве Ф. М. Достоевского. В «петербургской поэме» «Двойник» парафраз ощущается в хронотопе (ноябрь, Петербург, тротуарная тумба), в угрозе наводнения и явлении сверхличного могущества, которое у Достоевского персонифицируется, вместо статуи, в двойнике. Подобно пушкинскому Евгению, Голядкин бросает вызов гнетущей силе и переживает катастрофу безумия. В отличие от Пушкина, у Достоевского деструкция исходит как от враждебного мира, так и от амбициозной личности героя. Достоевский прочитал пушкинский шедевр как экзистенциальный сюжет о богооставленности человека, усомнившегося в прочности мирового бытия. Этот мотив заявлен уже в «Бедных людях», а затем получает развитие, кроме «Двойника», в «Господине Прохарчине», «Слабом сердце», где к катастрофе ведет неуверенность и страх жизни. Рассматривается метафизический смысл так называемого «видения на Неве», переходящего у Достоевского из произведения в произведение. Кроме названных, это также «Петербургские сновидения в стихах и прозе», «Преступление и наказание», «Подросток». Петербургский текст Достоевского формируется в виду «Медного Всадника» на грани символики, связующей с темой библейского Иова, и фантасмагории города-призрака. Поэма о Петре и Евгении стала частью пушкинского кода русской литературы, получив возможность наращивать смысловой потенциал в последующих эпохах. Так, Достоевский открывает в прототексте всё новые и новые ресурсы, реализуя их в собственных произведениях. Тем самым подтверждается гипотеза А. Л. Бема-С. Г. Бочарова о существовании генетической памяти литературы. Ключевые слова: Пушкин, «Медный Всадник», Достоевский, генезис творчества, богооставленность, метафизика петербургского текста
Пушкин, "медный всадник", достоевский, генезис творчества, богооставленность, метафизика петербургского текста
Короткий адрес: https://sciup.org/147226221
IDR: 147226221 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2019.6322
Текст научной статьи "Медный всадник" в творчестве Ф. М. Достоевского
В «петербургской поэме» Достоевского «Двойник» эпизод явления фантомного двойника сопровожден одним неясным намеком: «Какая-то далекая, давно уж забытая идея, — воспоминание о каком-то давно случившемся обстоятельстве, — пришла теперь ему в голову…»1. Автор возбуждает интертекстуальную память читателя и опирается на нее. «Обстоятельство» вспоминается непосредственно после встречи с собачонкой, что «увязалась за господином Голядкиным <…>, по временам робко и понятливо на него поглядывая» ( Д30 ; 1: 142). Собачонка исчезнет, а на ее месте появится двойник. Так за реальностью петербургского приключения проступает ирреальность мифа: дьявол являлся впервые Фаусту (оставленному Богом) в виде черного пуделя (см.: [Захаров, 1985: 78–79]). Мифологическое пространство многослойно: в одном архетипе (Яков Голядкин — библейский Иаков (см.: [Захаров, 1990: 100]) просвечивает другой (Фауст), а следом за ними спешит проявиться третий, уже из петербургского интертекста (см.: [Мих-новец]).
Еще один намек прочитывается в контексте обстоятельств, окружающих «точку безумия» г-на Голядкина. Пушечный выстрел предупреждает петербуржцев о надвигающейся страшной опасности, сопряженной с жизнью в этом городе. И только услышав выстрел, господин Голядкин подумал: «…не будет ли наводнения?» (Д30; 1: 140), — как показался ему навстречу прохожий. Вместо ожидаемого страшного потопа опасность персонифицируется в знакомом незнакомце, то исчезающем в «снежной метелице», то шумом своих шагов, «сквозь завывание ветра и шум непогоды», наводящем на Голядкина ужас: у героя «задрожали все жилки, колени его подогнулись, ослабли, и он со стоном присел на тротуарную тумбочку. <…> долго ли именно он сидел на тротуарном столбу, — не могу сказать, но только, наконец маленько очнувшись, он вдруг пустился бежать без оглядки, что силы в нем было; дух его занимался…» (Д30; 1: 141–142). Подробности, сопровождающие явление двойника, — явственный парафраз на тему «Медного всадника». Только «тротуарный столб» заменил мраморного льва, верхом на котором сидел Евгений. Голядкин «пустился бежать без оглядки» — опять же, как пушкинский герой: «Евгений / Стремглав, не помня ничего, / Изнемогая от мучений, / Бежит туда, где ждет его / Судьба с неведомым известьем, / Как с запечатанным письмом»2. Можно добавить сюда же наблюдение, сделанное Г. А. Федоровым: Голядкин в сцене раздвоения пробегает по Аничкову мосту мимо бронзовых фигур близнецов-укротителей вздыбленного коня, «соперников» Фальконетова монумента [Федоров: 203–205]. На пушкинскую поэму отзывается и хронотоп «поэмы» Достоевского: «Ночь была ужасная, ноябрьская» — со «всеми дарами петербургского ноября» — «снег, дождь и всё то, чему даже имени не бывает, когда разыгрывается вьюга и хмара под петербургским ноябрьским небом», — трижды на одной странице повторяет автор, как будто на что-то настойчиво намекает (курсив мой. — В. В.) (Д30; 1: 138). Напомню зачин первой части «Медного всадника»: «Над омраченным Петроградом / Дышал ноябрь осенним хладом» (12)3.
«Лихорадочный трепет пробежал по жилам его» (Д30; 1: 140) — говорится о состоянии Голядкина, утратившего навсегда Клару Олсуфьевну и натолкнувшегося на таинственно-враждебную силу. «По сердцу пламень пробежал, / Вскипела кровь» — 22, — сказано о бедном Евгении в сходных обстоятельствах. Тень Медного всадника еще и раньше падала на господина Голядкина, когда он строил «план своих действий, чтоб сокрушить рог гордыни и раздавить змею, грызущую прах в презрении бессилия» (Д30; 1: 168)4, то есть как бы примеряя на себя бронзовую тогу победительного Всадника (не случайно же он Яков ПЕТРОВИЧ и он тоже над «бездной» — Д30; 1: 142). Подобных мыслей не знал Евгений, желавший лишь занять свое место, доставшееся ему, униженному потомку славного рода. Кроткий пушкинский герой, с малыми оговорками смиренно принимавший судьбу, ударом ее был подвигнут на протест. Господин Голядкин вынашивает бунт, изначально не соглашаясь на скромную роль, отведенную ему судьбою. Если Евгений — Иов (см. об этом: [Тархов], [Немировский]), то Голядкин — Иаков. Поэтому и наказаны они различно: Евгения преследует грозный рок, сверхличная сила, принявшая образ тяжело-звонко скачущего Всадника Медного, а к Голядкину «человечек <…> спешил, частил, торопился» (Д30; 1: 141) — ОН САМ, его второе Я (см. фонетическую игру с именем героя: «Я… Я… Яков Петровичем <…> Я, Яков Петрович <…> Яков Петрович. Я… Я человек здесь затерянный, Яков Петрович…» (Д30; 1: 154–155). Если в пушкинской «петербургской повести», хотя в стихах, некая внешняя сила — государство ли, природная ли стихия — гнетет человека, то в «петербургской поэме», хотя и в прозе, Достоевского агрессия исходит как извне, так и изнутри человека (встречные потоки!), так что личность в ее амбициозных претензиях не на равенство даже, а на «первенство» (см.: Д30; 1: 185) начинает с того, что вытесняет самое себя из отведенного ей пространства, как в евангельской притче о званых на брачный пир: «…всякий возвышающий сам себя унижен будет…» (Лк. 14:11). Конфуз, случившийся на пиру (почти брачном) у Олсуфия Ивановича, был «запрограммирован» еще в той давней притче. Во всем этом, быть может, и заключалось эпохальное значение «Двойника» (поначалу автор ставил его выше горячо ценимых «Мертвых душ»), а точнее, его идеи, о которой Достоевский и тридцать лет спустя говорил, что «серьезнее <…> никогда ничего в литературе не проводил» (Д30; 26: 65). Деструкция исходит в «Двойнике» как от среды и «вытесняющих» обстоятельств [Евнин: 12], так и, еще более, от самой личности, превышающей свои права и полномочия, от «амбиции» и порождаемого ею «экзистенциального одиночества» [Дрыжакова: 47].
***
У Гете Бог оставляет Фауста и отдает его в руки Мефистофелю, надеясь на духовную силу человека, заключенную в его разуме. В Библии Бог отдает Иова во власть сатане, полагаясь на спасительность веры. В «Медном всаднике» Евгений оставлен высшим покровительством и отдан во власть равно враждебных ему стихий и «воли роковой». Тема оставленности бедного героя (и разум, и вера его покидают) намечается уже в начале первой части поэмы в грустных размышлениях, «Что мог бы Бог ему прибавить / Ума и денег» (13). В черновой рукописи Пушкин написал сначала «царь», но зачеркнул и заменил на «Бог» (37); замена земной иерархии на универсальную вела к наращиванию экзистенциальной глубины сюжета. В конце первой части герой теряет самый смысл существования (что в «Медном всаднике» заметил Андрей Платонов: «…человек уничтожается вместе со своей любовью» [Платонов: 14]):
«Или во сне
Он это видит? иль вся наша И жизнь ничто, как сон пустой, Насмешка неба над землей?» (16).
Как символ пустоты, одиночества человека на земле, «обращен к нему спиною <…> Кумир на бронзовом коне» (16) (вариант для цензуры: «Седок» — 78). Во второй части мотив разбивается на множество мелких осколков: здесь и народ с его «бесчувствием холодным» (19), и сравнение реки с «челобитчиком у дверей / Ему не внемлющих судей» (20), и жалкие обиды безумного скитальца, повторяющие обиды Иова: «Злые дети / Бросали камни вслед ему» (20) и т. д. В финале поэмы острое чувство оставленности перерастает в манию преследования на грани психиатрии и мистики.
Библейская интертекстуальность «Медного всадника» (во вступлении акт создания Петербурга уподоблен акту сотворения мира [Анциферов: 67], [Лесскис: 432–433], в первой части несомненна аллюзия Всемирного потопа — «Божия гнева» и «казни», во второй — поэтически концентрированная ситуация Иова) обращает смысл поэмы от исторического, социального и психологического уровней к метафизическому. Так и в «Двойнике» социально-антропологическая проблема, увиденная Добролюбовым («Забитые люди»), была только поверхностным слоем проблемы метафизической.
Достоевскому приписывалась крылатая фраза «все мы вышли из гоголевской “Шинели”» (последняя атрибутивная версия: [Долинин]), сделавшаяся весьма репродуктивной. Если вспомнить, что самая «Шинель» как описание фантастического бунта «маленького человека», всеми оставленного, хронологически следует за «Медным всадником», то право первородства в русской литературе необходимо толковать в уточненной редакции, предложенной А. Блоком: «“Медный всадник”, — все мы находимся в вибрациях его меди» [Блок: 169].
Пушкинское горькое вопрошание о человеческой жизни найдет у Достоевского новый отзвук в последующих произведениях: «Господин Прохарчин», «Слабое сердце». Их герои относительно благополучны и… несчастны. Для того чтобы низвергнуться в бездну, им не нужно даже удара судьбы, достаточно одной угрозы такового удара, прошедшей через увеличительное стекло «нравственной мнительности» [Миллер: 117], «страха жизни» [Анненский: 31]. Одна только неуверенность в прочности человеческого бытия, оставленного Богом, способна погубить «слабых сердцем» героев Достоевского.
«Слабое сердце» — пролегомены ко всему последующему творчеству Достоевского, и особенно финальная часть повести: описание таинственного «видения на Неве», посетившего Аркадия Ивановича. Об этом эпизоде написано много, попытаемся и мы приблизиться к его смыслу, имея в виду двоякие — библейские и пушкинские — корни символизма Достоевского. Аркадий, потрясенный «химерическим несчастием» друга, возвращается домой по Николаевскому (Дворцовому) мосту:
«Мерзлый пар валил с загнанных насмерть лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе… Казалось, наконец, что весь этот мир со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами — отрадой сильных мира сего, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная дума посетила осиротелого товарища бедного Васи. Он вздрогнул, и сердце его как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива какого-то могучего, но доселе не знакомого ему ощущения. Он как будто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, отчего сошел с ума его бедный, не вынесший своего счастия Вася. Губы его задрожали, глаза вспыхнули, он побледнел и как будто прозрел во что-то новое в эту минуту…» (Д30; 2: 48).
Прозрение героя Достоевского сродни прозрению бедного Евгения, петербургского Иова. Великий город, «отрада сильных мира сего», не принадлежит ему, для него он пуст, прекрасный и холодный, всего лишь греза, как, впрочем, и «весь этот мир» ( ср. в «Медном всаднике»: «И жизнь ничто, как сон пустой, / Насмешка неба над землей?» — 16 ) . Весь пейзаж в целом выражает одиночество и оставленность человека в холодном, угрюмо враждебном мире.
Стоит вернуться назад, чтобы увидеть начало мотива еще в первом романе Достоевского:
«…случается мне, моя родная, рано утром, на службу спеша, заглядеться на город, как он там пробуждается, встает, дымится, кипит, гремит, — тут иногда так перед таким зрелищем умалишься, что как будто бы щелчок какой получил от кого-нибудь по любопытному носу, да и поплетешься тише воды, ниже травы своею дорогою и рукой махнешь!» ( Д30 ; 1: 88).
Метафизический смысл «Медного всадника», поразивший Достоевского еще в сороковые годы, останется лейтмотивом его творчества после возвращения с каторги. Он вспомнит о нем в автоконцептуальных «Петербургских сновидениях в стихах и прозе». В этот фельетон Достоевский перенесет из «Слабого сердца» почти дословно всё описание фантастической грезы Аркадия — кажется, единственный случай удвоения текста в творчестве Достоевского. «Странную мысль» Аркадия (изначально пушкинскую, пришедшую впервые бедному Евгению) автор фельетона перепишет на себя ( Д30 ; 19: 69). Фельетонист-визионер «Петербургских сновидений» пройдет тем же путем Иова, что и Аркадий, путем прозрения неустойчивости человеческого бытия, предоставленного самому себе. Плод познания в одном случае («Слабое сердце») приносит неизбывную горечь, а в другом («Петербyргские сновидения») пробуждает к жизни художника-тайноведа. Достоевский приоткрывает здесь, возможно, самый сокровенный источник своего творчества: его гений был пробужден состраданием к человеку, оставленному Богом.
Мотив «Медного всадника» (видение Евгения) отзывается и в «Петербургских сновидениях», когда рассказчик повествует о чиновнике, возомнившем себя Гарибальди, но вдруг испугавшемся собственного бунта… Далее в фельетоне как будто продолжается пушкинский перечень несчастий помешавшегося Евгения, всеми оставленного и гонимого:
«…ни высокомерные лакеи у подъездов, подставлявшие ему на Невском ногу, ни ворона, севшая ему однажды на улице на искомканную его шляпу и возбудившая всеобщий смех его департаментских, ни кнутики лихачей-извозчиков, ни пустое собственное брюхо — ничто, ничто уже более не занимало его. Весь Божий мир скользил перед ним и улетал куда-то, земля скользила из-под ног его» ( Д30 ; 19: 72).
Оставленность человека приобретает в этом последнем описании, отчасти созвучном финалу гоголевских «Записок сумасшедшего», глобальный космический смысл: Божий мир оставляет несчастное свое создание, извергнув из своего лона как нечто никчемное. Пушкин в «Медном всаднике» ставит на этом точку. Достоевский продолжит далее.
«Видение на Неве» в третий раз явится в «Преступлении и наказании», во второй части романа, после «пробы» с Разумихиным. Задумав идти к другу «после того», Раскольников как бы испытывает себя, желая экспериментально доказать, что преступление ничего в принципе не изменило в его жизни и он так же, как прежде, может спокойно и уверенно смотреть людям в глаза. Эксперимент доказывает обратное: преступник не способен «сходиться лицом к лицу с кем бы то ни было в целом свете» ( Д30 ; 6: 88). Он возвращается домой и проходит по знакомому уже нам Николаевскому мосту, вдруг настигнутый «неприятным случаем»:
«Его плотно хлестнул кнутом по спине кучер одной коляски, за то что он чуть-чуть не попал под лошадей, несмотря на то что кучер раза три или четыре ему кричал» ( Д30 ; 6: 89).
Знакомый отголосок «Медного всадника» («Нередко кучерские плети / Его стегали, потому / Что он не разбирал дороги…» — 20) далеко здесь не случаен, ибо сразу после этого
Раскольникову предстоит пережить нечто похожее на вид е ние пушкинского героя — его настигает одно давнее воспоминание:
«…случалось ему, может быть раз сто, останавливаться именно на этом же самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина…» ( Д30 ; 6: 90).
Повторяются и усиливаются знакомые черты: доныне «великолепная панорама» Петербурга (Зимний дворец — Адмиралтейство — Исаакиевский собор — Медный Всадник — ансамбль Синода и Сената) и вместе с тем холод молчания, «дух немой и глухой». Маленький на этом величественном фоне человек теряется, исчезает, ощущает себя ненужным (далее: «Казалось, он улетал куда-то вверх» ( Д30 ; 6: 90) — ср. в «Слабом сердце»: вверх улетучивался сам город). Ничто, как ему кажется, не говорит с ним, и он сам ни с чем и ни с кем говорить не желает (потому и улетает — он сам). Следующий жест Раскольникова в высшей степени символичен: он швыряет в Неву поданную ему милостыню, этот, по христианским представлениям, знак завещанной Богом любви, теплоты мира: «Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту» ( Д30 ; 6: 90).
Еще одна подробность, новая в этом варианте «видения на Неве», едва намеченная в «Слабом сердце» (Лиза, плачущая на церковной паперти), но идущая, возможно, еще от истоков мотива Иова в самом первом романе Достоевского (Девушкин, проходящий мимо церкви). Собственно, с этой подробности начинается описание вид е ния:
«Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста, не доходя шагов двадцать до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение» ( Д30 ; 6: 89–90).
Природа (небо — Нева) и Божий храм включены в представлении героя в общую картину холодного безучастия. Раскольников имеет возможность разглядеть украшения Исаакиевского собора, но он не видит, не ощущает в монументальном великолепии теплоты и участия. Он не видит и не слышит Того, Кого в романе дано видеть и слышать Соне. «Что ж бы я без Бога-то была?» — это ее признание Раскольников не может объяснить иначе как «помешательством» ( Д30 ; 6: 248), он слишком уверен во всеобщности испытываемого им одиночества богооставленности. Нужна неиссякаемая энергия любви и веры Сонечки, чтобы переломить упорство этого самоуверенного псевдо-Иова, думающего, что Бог его оставил, в то время как он сам, человек, оставил Его.
Как показывают черновики романа (первый вариант, написанный от лица героя), «видение на Неве» Раскольникова поначалу впрямую вырастало из воспоминания о пушкинской поэме:
«Я пошел потом по Сенатской площади. Тут всегда бывает ветер, особенно около памятника. Грустное и тяжелое место. Отчего на всем свете я никогда ничего не находил тоскливее и тяжеле вида этой огромной площади?» ( Д30 ; 7: 34).
Замечательна перекличка с той цитатой из «Двойника», с которой мы начали статью: площадь Медного Всадника для Достоевского наполнена загадочно-сакральными воспоминаниями. Знаком и «ветер около памятника», напоминающий о стихии в пушкинской поэме, причине наводнения: «…силой ветров от залива / Перегражденная Нева / Обратно шла…» — 14. Этот природно-стихийный мотив Достоевским трактован символически («Двойник», «Преступление и наказание»). Ветер — перемещение воздуха в образовавшуюся пустоту. В окончательном тексте «Преступления и наказания» остались лишь отголоски мотива в виде повторяющегося «воздуху, воздуху» ( Д30 ; 6: 264, 336).
Еще один раз вернется Достоевский к идущей от Пушкина метафизической мифологеме Петербурга. «Видение на Неве» посетит другого Аркадия — Аркадия Макаровича Долгорукого в «Подростке» — накануне решающих испытаний в его жизни. Тема грезы, фантазии, сна приобретает здесь особую болезненную остроту (как и весь роман в творчестве Достоевского, русская версия «Утраченных иллюзий» Бальзака) и вновь с роковой почти неотвратимостью возвращает нас к «Медному всаднику»:
«Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: “А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?”» ( Д30 ; 13: 113).
Аркадий Макарович повторяет картину, привидевшуюся его тезке из «Слабого сердца»: город, создание Петра, поднимается, искуряется дымом или туманом (напомним, что в «Преступлении и наказании» фантомным движением захвачен сам герой, что заставляет задуматься о сущностном отличии его от двух Аркадиев). Медный Всадник на «загнанном коне» (мотив, намеченный еще в «Слабом сердце» и развитый в «Преступлении и наказании») — своеобразное продолжение жизни пушкинского образа в новом историческом и художественном пространстве, нарочито антитетичное: у Пушкина Всадник сходит со своего пьедестала, у Достоевского сходит на нет созданный им город, а Тот остается неколебим несмотря ни на что. Эта неколебимость соединяется с «загнанностью» коня, уже смертельно уставшего (у Пушкина такой оттенок отсутствует).
Достоевский понимал теперь поэму как символическое изображение затянувшегося петровского периода русской истории. Когда писался «Подросток», автор его иначе, нежели Пушкин, и нежели сам он в 40-е годы, относился к Петру, к петровским реформам и к новой столице, что порождало прямой спор с автором «Медного всадника», исключительно редкий у Достоевского. По поводу знаменитого «Люблю тебя, Петра творенье» он чуть позднее оговаривается: «Виноват, не люблю его. Окна, дырья — и монумент» (Д30; 27: 62). Окно — дыра — пустое место, куда дует ветер, — так трансформируется у Достоевского пушкинский образ «в Европу прорубил окно»5, в полном соответствии с легендарным пророчеством: «Быть Петербургу пусту!». За историческим, однако, он, как и раньше, вновь прочитывал метафизическое: иллюзорность человеческого мира, оставшегося наедине с «кумиром», то есть в конечном счете с самим собою.
Можно с уверенностью утверждать, что Достоевский на протяжении творческой жизни дописывал поэму Пушкина «Медный всадник», вводя ее в новый исторический и литературный контекст. Это не было перекраиванием с целью самоутверждения новейшего автора. Достоевский шел путем проращивания имеющихся зерен, раскрытия потенциального смысла прототекста. Не исключая возможность сознательной установки на цитатность, мы всё же склоняемся к признанию фактора «генетической памяти литературы», акцентированного в поздних работах С. Г. Бочарова, опиравшегося, в свою очередь, на изыскания А. Л. Бема о «власти литературных припоминаний» [Бем: 104]. «Творческий анамнезис, — утверждал ученый, — был его <Достоевского> писательским методом» [Бочаров: 12].
Примечания
-
1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Т. 1. С. 142. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения Д30 и указанием тома, страницы в круглых скобках.
-
2 Пушкин А. С. Медный всадник / изд. подгот. Н. В. Измайлов. Л.: Наука, 1978. С. 18. (серия «Литературные памятники»). Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием страницы в круглых скобках.
-
3 При сопоставлении «Медного всадника» с произведениями Достоевского 1840-х гг. мы учитываем то обстоятельство, что текст поэмы печатался тогда в искаженном виде. Достоевский мог знать и подлинный, не отредактированный Жуковским текст, как его знали современники писателя [Осповат, Тименчик: 28–29, 40–41, 69–70, 79–80], в частности он мог слышать о нем от Белинского. Но поскольку таковое утверждение может претендовать лишь на предположительность, следует учитывать и возможность использования Достоевским в 40-е гг. цензурного варианта. В этом случае следует признать, что основная идея поэмы пробивала-таки дорогу через цензурные искажения и не была совсем уж закрыта для читателей первой половины XIX в. (в 1857 г. в VII дополнительном томе издания Пушкина П. В. Анненков привел почти все строки, вычеркнутые или искаженные Жуковским).
-
4 Комментаторы верно указывают на цитату из «Моцарта и Сальери» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. и писем: в 35 т. 2-е изд., испр.
и доп. СПб.: Наука, 2013. Т. 1. С. 743), что, на наш взгляд, не исключает «теневой» аллюзии и на Фальконетов монумент («раздавить змею»).
-
5 Очевидно, в этом же ключе следует понимать и запись 1876 года: «“Медный всадник”. Все-таки неправда» ( Д30 ; 23: 191), оставленную без комментария в академическом издании Достоевского.
Список литературы "Медный всадник" в творчестве Ф. М. Достоевского
- Анненский И. Книги отражений. - М.: Наука, 1979. - 679 с.
- Анциферов Н. П. Быль и миф Петербурга. - Пг.: Брокгауз-Ефрон, 1924. - 84 с.
- Бем А. Л. Исследования. Письма о литературе / сост. С. Г. Бочарова, предисл. и коммент. С. Г. Бочарова и И. З. Сурат. - М.: Языки славянской культуры, 2001. - 448 с.
- Блок А. А. Записные книжки: 1901-1920. - М.: Худож. лит., 1965. - 686 с.
- Бочаров С. Генетическая память литературы. - М.: РГГУ, 2012. - 343 с.
- Викторович В. А. Под знаком Иова // Болдинские чтения 2018. - Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2018. - С. 14-21.
- Викторович В. А. Путь русской литературы от Пушкина к Достоевскому // Достоевский и мировая культура: Филологический журнал. - 2018. - № 1. - С. 12-20.
- Дилакторская О. Г. Петербургская повесть Достоевского. - СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. - 345 с.
- Долинин А. А. Кто же сказал «Все мы вышли из "Шинели" Гоголя»? // Русская литература. - 2018. - № 3. - С. 163-170.
- Дрыжакова Е. Феномен Голядкина: откуда и куда // Дрыжакова Е. По живым следам Достоевского: факты и размышления. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. - С. 29-49.
- Евнин Ф. Об одной историко-литературной легенде (повесть Достоевского «Двойник») // Русская литература. - 1965. - № 3. - С. 3-26.
- Захаров В. Н. Трагедия Голядкина (О повести Ф. М. Достоевского «Двойник. Петербургская поэма») // О традициях и новаторстве в литературе: межвуз. науч. сб. - Уфа: [б. и.], 1976. - С. 117-127.
- Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1985. - 209 с.
- Захаров В. Н. Библейский архетип «Двойника» Достоевского // Проблемы исторической поэтики. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1990. - Вып. 1. - С. 100-104 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2347 (дата обращения: 18.02.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.1990.2347
- Захаров В. Н. Загадка «Двойника» // Захаров В. Н. Имя автора - Достоевский. Очерк творчества. - М.: Индрик, 2013. - С. 88-133.
- Лесскис Г. А. Пушкинский путь в русской литературе. - М.: Худож. лит., 1993. - 526 с.
- Миллер О. Ф. Русские писатели после Гоголя: чтения, речи и статьи: в 2 ч. 4-е изд., испр. и доп. - СПб.: Н. П. Карбасников, 1890. - Ч. 1: И. С. Тургенев; Ф. М. Достоевский. - 530 с.
- Михновец Н. Г. «Двойник» в историко-литературной перспективе // Достоевский и мировая культура. Альманах № 20. - СПб.; М.: Серебряный век, 2004. - С. 105-131.
- Немировский И. В. Библейская тема в «Медном Всаднике» // Русская литература. - 1990. - № 3. - С. 3-17.
- Осповат А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальну повесть сохранить…»: об авторе и читателях «Медного Всадника». - М.: Книга, 1985. - 303 с.
- Платонов А. Мастерская. - М.: Советская Россия, 1977. - 144 с.
- Тархов А. Повесть о петербургском Иове // Наука и религия. - 1977. - № 2. - С. 62-64.
- Федоров Г. А. Петербург «Двойника» // Федоров Г. А. Московский мир Достоевского. Из истории русской художественной культуры XX века. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - С. 194-210.
- Анненский И. Книги отражений. - М.: Наука, 1979. - 679 с.
- Анциферов Н. П. Быль и миф Петербурга. - Пг.: Брокгауз-Ефрон, 1924. - 84 с.
- Бем А. Л. Исследования. Письма о литературе / сост. С. Г. Бочарова, предисл. и коммент. С. Г. Бочарова и И. З. Сурат. - М.: Языки славянской культуры, 2001. - 448 с.
- Блок А. А. Записные книжки: 1901-1920. - М.: Худож. лит., 1965. - 686 с.
- Бочаров С. Генетическая память литературы. - М.: РГГУ, 2012. - 343 с.
- Викторович В. А. Под знаком Иова // Болдинские чтения 2018. - Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2018. - С. 14-21.
- Викторович В. А. Путь русской литературы от Пушкина к Достоевскому // Достоевский и мировая культура: Филологический журнал. - 2018. - № 1. - С. 12-20.
- Дилакторская О. Г. Петербургская повесть Достоевского. - СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. - 345 с.
- Долинин А. А. Кто же сказал «Все мы вышли из "Шинели" Гоголя»? // Русская литература. - 2018. - № 3. - С. 163-170.
- Дрыжакова Е. Феномен Голядкина: откуда и куда // Дрыжакова Е. По живым следам Достоевского: факты и размышления. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. - С. 29-49.
- Евнин Ф. Об одной историко-литературной легенде (повесть Достоевского «Двойник») // Русская литература. - 1965. - № 3. - С. 3-26.
- Захаров В. Н. Трагедия Голядкина (О повести Ф. М. Достоевского «Двойник. Петербургская поэма») // О традициях и новаторстве в литературе: межвуз. науч. сб. - Уфа: [б. и.], 1976. - С. 117-127.
- Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1985. - 209 с.
- Захаров В. Н. Библейский архетип «Двойника» Достоевского // Проблемы исторической поэтики. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1990. - Вып. 1. - С. 100-104 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2347 (дата обращения: 18.02.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.1990.2347
- Захаров В. Н. Загадка «Двойника» // Захаров В. Н. Имя автора - Достоевский. Очерк творчества. - М.: Индрик, 2013. - С. 88-133.
- Лесскис Г. А. Пушкинский путь в русской литературе. - М.: Худож. лит., 1993. - 526 с.
- Миллер О. Ф. Русские писатели после Гоголя: чтения, речи и статьи: в 2 ч. 4-е изд., испр. и доп. - СПб.: Н. П. Карбасников, 1890. - Ч. 1: И. С. Тургенев; Ф. М. Достоевский. - 530 с.
- Михновец Н. Г. «Двойник» в историко-литературной перспективе // Достоевский и мировая культура. Альманах № 20. - СПб.; М.: Серебряный век, 2004. - С. 105-131.
- Немировский И. В. Библейская тема в «Медном Всаднике» // Русская литература. - 1990. - № 3. - С. 3-17.
- Осповат А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальну повесть сохранить…»: об авторе и читателях «Медного Всадника». - М.: Книга, 1985. - 303 с.
- Платонов А. Мастерская. - М.: Советская Россия, 1977. - 144 с.
- Тархов А. Повесть о петербургском Иове // Наука и религия. - 1977. - № 2. - С. 62-64.
- Федоров Г. А. Петербург «Двойника» // Федоров Г. А. Московский мир Достоевского. Из истории русской художественной культуры XX века. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - С. 194-210.