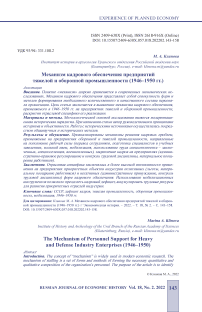Механизм кадрового обеспечения предприятий тяжелой и оборонной промышленности (1946-1950 гг.)
Автор: Клинова Марина Александровна
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Опыт плановой экономики
Статья в выпуске: 2 (57) т.18, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. Понятие «механизм» широко применяется в современных экономических исследованиях. Механизм кадрового обеспечения представляет собой совокупность форм и методов формирования необходимого количественного и качественного состава персонала организации. Цель статьи заключается в выявлении механизма кадрового обеспечения, применяемого в 1946-1950 гг. на предприятиях тяжелой и оборонной промышленности, раскрытии отраслевой специфики его реализации. Материалы и методы. Методологической основой исследования является модернизационная историческая парадигма. При написании статьи автор руководствовался принципами историзма и объективности. Работа с историческими источниками осуществлялась посредством общенаучных и исторических методов. Результаты и обсуждение. Проанализированы механизмы решения кадровых проблем, применяемые на предприятиях оборонной и тяжелой промышленности, направленные на пополнение рабочей силы (перевод сотрудников, подготовка специалистов в учебных заведениях, вольный наем, мобилизация, использование труда спецконтингента - заключенных, спецпоселенцев, военнопленных), закрепление кадров на предприятиях (административно-правовое регулирование и контроль трудовой дисциплины, материальное поощрение работников). Заключение. Отраслевая специфика заключалась в более высокой интенсивности применения на предприятиях приоритетных объектов индустрии позитивных (льготы, материальное поощрение работников) и негативных (административное принуждение, контроль трудовой дисциплины) форм кадрового обеспечения. Использование мобилизационных инструментов позволило преодолеть кадровый дефицит, аккумулировать трудовые ресурсы для развития приоритетных отраслей индустрии.
Ссср, дефицит кадров, тяжелая промышленность, оборонная промышленность, мобилизация, 1946-1950 гг
Короткий адрес: https://sciup.org/147238012
IDR: 147238012 | УДК: 93/94: | DOI: 10.15507/2409-630X.057.018.202202.143-158
Текст научной статьи Механизм кадрового обеспечения предприятий тяжелой и оборонной промышленности (1946-1950 гг.)
Понятие «механизм» широко применяется в современных экономических исследованиях. Под экономическим механизмом понимают совокупность методов и средств воздействия на экономические процессы1. Кадровое обеспечение является одним из важных составляющих эффективной работы учреждения, предприятия, отрасли и экономической системы в целом. Исходя из общего понимания механизма как совокупности способов, методов, норм, средств, форм функционирования чего-либо или воздействия на что-либо [11, с. 20], можно говорить о механизме кадрового обеспечения, представляющем собой совокупность форм и методов формирования необходимого количественного и качественного состава персонала организации [12, с. 49].
Проблематика послевоенного кадрового обеспечения предприятий отечественной индустрии не является новой для отечественной историографии. В рамках совет -ского историографического этапа в научной литературе получили рассмотрение вопросы кадрового обеспечения предприятий тяжелой индустрии [35; 36]. В современной историографии проанализированы вопро- сы кадрового обеспечения предприятий отечественного атомного комплекса [1; 4; 20; 23; 25; 26; 33], ракетостроения [14; 27; 29; 42] и других отраслей оборонной промышленности [7; 9; 10; 15; 38], а также проанализированы источники трудовых ресурсов отдельных отраслей тяжелой промышленности - угольной, тяжелого машиностроения и др. [3]. Актуальными темами научного поиска являются вопросы использования на предприятиях индустрии труда заключенных [16; 19; 21; 37; 41], спецпоселенцев [17; 22; 30] военнопленных [5; 39].
Целями данной работы являются выявление механизма кадрового обеспечения, применяемого в 1946-1950 гг. на предприятиях тяжелой и оборонной промышленности, раскрытие отраслевой специфики его реализации.
Материалы и методы
Методологической основой исследования является модернизационная историческая парадигма. Она представляет собой макроуровневую методологию, ориентированную на изучение социальных перемен, трансформаций и инновационных мероприятий, фиксируемых в процессе развития общества [28, с. 36]. При написании статьи автор руководствовался принципами историзма и объективности. Работа с историческими источниками осуществлялась посредством общенаучных методов (анализа, синтеза, индукции и др.), а также исторических методов (проблемно-хронологического, ретроспективного, сравнительно-исторического).
Результаты и обсуждение
План четвертой пятилетки, как и предшествующие ему пятилетние циклы, был ориентирован на первостепенное развитие промышленного производства. В своем выступлении перед избирателями Москвы 9 февраля 1946 г. И. В. Сталин расставил приоритеты, подчеркнув, что тяжелая и военная промышленность создают для родины гарантии от всяких случайностей2. Вследствие начала холодной войны важными стратегическими направлениями развития промышленности стали освоение и развитие новейших видов вооружения [2, с. 60–75].
Для повышения интенсивности и производительности труда в промышленности, а также наращивания военно-промышленной мощи страны требовалось решить кадровую проблему, которая определялась двумя аспектами. В первую очередь – дефицитом рабочих рук, существующим на предприятиях индустрии. В результате войны численность рабочих и служащих СССР сократилась на 5,4 млн чел., в РСФСР – на 2,5 млн чел. (из них почти на 500 тыс. чел. сократилось число работников промышлен-ности)3. Проблема нехватки рабочих рук усугубилась в связи с отменой системы трудовой мобилизации, реэвакуацией, уходом с предприятий подростков и работников старших возрастных групп. Второй составляющей кадровой проблемы являлась необходимость сохранения уже работающих сотрудников. В зависимости от отраслевой принадлежности предприятия способы решения данных задач имели специфические особенности.
Одной из важнейших составляющих кадровой проблемы послевоенного периода был дефицит квалифицированных сотрудников. На предприятиях черной металлургии Урала численность инженерно-технических работников (ИТР) была ниже требуемого: на Магнитогорском металлургическом комбинате не хватало 231 инженера и техника, на заводах Гла-вуралмета – 280, Новотагильском – 55, на предприятиях Уралруда – 112, Челябинском трубопрокатном – 68. Нехватка ИТР отмечалась и на предприятиях оборонной промышленности. На Комбинате № 179 (г. Новосибирск) в 1946 г. из 1 263 чел. ИТР дипломы инженеров имели 166 чел (13,6 %), а большинство составляли практики – 925 чел. (73,3 %). На Авиационном заводе № 153 дипломированных инженеров было 8,4 % от общего количества ИТР предприятия, а на заводе № 69 – 13,8 % [33].
Данная проблема решалась двумя способами: посредством перевода работников из других предприятий (отраслей) и путем подготовки квалифицированных кадров в соответствующих учебных учреждениях.
Перевод ИТР и других квалифицированных специалистов с одних предприятий на другие регламентировался указом Президиума ВС СССР от 19 октября 1940 г.4 Перевод сотрудников не являлся основным инструментом преодоления кадрового дефицита в тяжелой индустрии. На предприятиях тяжелого машиностроения доля сотрудников, переведенных с других предприятий, была несущественной, составляя в 1949 г. 2,6 % [36, с. 6]. Значительно чаще путем перевода решались кадровые проблемы на предприятиях отраслей, имевших стратегическую важность и требующих форсированного развития. В первую очередь к ним относились предприятия, занятые разработками новых видов вооружения. Отбор переводимых сотрудников осу- ществлялся самым тщательным образом [1, с. 148–149, 164; 25, с. 100–102; 38, с. 114– 120]. Процедура подбора кандидата включала рекомендацию, «экспертное мнение» о его профессиональных и личностных качествах, а также проверку претендента органами госбезопасности [23, с. 459].
Кадровыми «донорами» для предприятий ракетостроения стали авиастроение, судостроение, приборостроение [29, с. 20]. Для атомного проекта привлекался широкий спектр специалистов из геологоразведочной, горнорудной, металлургической промышленности [23, с. 460], оборонных отраслей, в частности танкопрома [15, с. 69], а также «непрофильных» министерств - легкой, пищевой промышленности, здравоохранения, торговли и др. (в связи с необходимостью обеспечения достойных условий жизни сотрудникам стратегических объектов). Фактически для данных отраслей не существовало закрытых кадровых ресурсов. Они были ориентированы на отбор лучших кадров, процесс которого был обозначен начальником Первого главного управления Б. Л. Ванниковым как «ограбление промышленности» [13, с. 14].
Для увеличения числа ИТР на предприятиях создавались курсы и школы, где в течение нескольких лет из опытных рабочих, мастеров и ИТР-практиков готовили специалистов высшей и средней квалификации. В 1946 г. в системе угольной промышленности были организованы годичные курсы для подготовки техников, в 1947 г. в ряде горных, индустриальных и политехнических институтов были организованы высшие инженерные курсы [35, с. 38]. Организовывались курсы повышения квалификации и переквалификации ИТР – станкостроителей, угольщиков, металлургов и др.
Механизм подготовки кадров для предприятий, занятых разработками новых видов вооружения, включал более широкий спектр мер. В июле 1947 г. в Москве открылась Академия промышленности вооружения [7, с. 128]. В ряде вузов СССР в 1946– 1947 гг. были созданы сеть специальных факультетов, новые крупные научно-исследовательские институты: Лаборатория № 2, Лаборатория № 3, НИИ-9, НИИ-88, НИИ-34 [4; 42; 45]. В 1946 г. Постановлением Совета Министров СССР утверждалось требование организовать в высших учебных заведениях и университетах подготовку инженеров и научных работников по реактивной технике5, в 1948 г. началась подготовка 2 тыс. студентов по реактивным специальностям [29, с. 20]. В 1951 г. для увеличения контингента инженеров по реактивной технике артиллерийскими академиями было досрочно выпущено 279 чел6. Специалисты среднего звена обучались в перепрофилированных техникумах Москвы, Ленинграда и Свердловска. Постановлением Совета Министров СССР «О подготовке высшими учебными заведениями специалистов для Первого главного управления при Совете Министров СССР», принятом 17 декабря 1948 г., утверждалось число выпускников, которое должно было быть подготовлено вузами Москвы, Ленинграда, Свердловска и Харькова: в 1949 г. – 760 чел., в 1950 г. – 1 210, в 1951 г. - 1 315 чел. (по специальностям «физика изотопов», «экспериментальная ядерная физика», «спектрология», «неорганическая химия» и пр.)7. В общей сложности в подготовке специалистов было задействовано 19 вузов страны.
Еще одной формой пополнения кадров на предприятиях был индивидуальный неорганизованный прием работников, основанный на личном желании претендентов. На протяжении 1946-1950 гг. в отечественной индустрии увеличивалась доля работников, принятых по вольному найму. В 1946 г. она составляла 59,13 %, а в 1947 г. возросла до 71,6 % от общего числа рабо- чих8. В черной металлургии доля индивидуально принятых увеличилась с 51,9 % в 1948 г. до 66,2 % в 1949 г. На предприятиях цветной металлургии показатель индивидуального приема составлял 49,6 % в 1948 г. и 53,1 % в 1949 г.9 В 1946 г. две трети всех рабочих, поступивших на предприятия тяжелого машиностроения, были приняты в порядке вольного найма [36, с. 4]. На Уралмашзаводе через систему индивидуального набора поступило 58,8 % рабочих в 1947 г. и 80,0 % в 1949 г. (к общему числу принятых на предприятие). На предприятиях строительного и дорожного машиностроения в 1948 г. трудоустройство неработающего городского населения увеличило ряды работников производства на 10 222 чел10. Система вольного найма получила распространение и на оборонных заводах Министерства вооружения СССР, расположенных в УАССР [10, с. 16]. Через данную систему на заводы устраивались демобилизованные из армии, ранее не работающие трудоспособные горожане. Кадровыми донорами для тяжелой и оборонной промышленности являлись предприятия других отраслей индустрии, непроизводственные предприятия. Например, в 1948 г. за счет перевода граждан «из непроизводственных специальностей в рабочие» предприятия Министерства строительного и дорожного машиностроения пополнились на 3 754 рабочих, занятых на производстве11. В первые послевоенные годы в качестве одной из причин трудоустройства граждан на предприятия тяжелой и оборонной промышленности был продовольственный паек. В октябре 1946 г. после сокращения контингента, находящегося на карточном снабжении (в группу сокращенных попали рабочие подсобных предприятий, местной промышленности) увеличилось число граждан, по- ступивших на работу: на Кировский завод (Челябинск) – 235 чел.; Металлургический комбинат (Магнитогорск) – 273; комбинат «Тулауголь» (Тула) – 85; Оружейный завод № 536 (Тула) – 175; Машиностроительный завод (Тула) – 82 чел.12
Важно отметить, что вольный наем не являлся превалирующей формой пополнения рабочей силы на предприятиях, занятых разработками новых видов вооружения. Секретность проводимых работ и необходимость привлечения большого количества рабочей силы в кратчайшие сроки фактически сводили к минимуму использование данного источника пополнения кадров. В ограниченном количестве на атомные объекты трудоустраивались жители близлежащих населенных пунктов (в основном рабочие и младший обслуживающий персонал) [23, с. 462–463]. Например, на строительстве Завода № 250 (Новосибирск) число вольнонаемных составляло 2,4 % от общей численности рабочих [33, с. 80].
Еще одним инструментом для решения кадровых проблем в индустрии была мобилизация граждан. Созданное в мае 1946 г. Министерство трудовых резервов должно было решать задачи вербовки работников на промышленные предприятия страны (оргнаборы), а также подготовки квалифицированных кадров для индустрии (школы ФЗО и РУ).
Оргнабор являлся эффективным способом решения проблемы нехватки рабочих рук на предприятиях, нуждающихся в быстром обеспечении кадрами, а также в тех отраслях, где была выше текучесть рабочей силы. Наибольшее число рабочих в 1946– 1950 гг. было направлено на предприятия, подконтрольные Министерству промышленного и военного строительства. Их доля составляла: в 1946 г. – 10,2 %; в 1947 – 22,4;
в 1948 – 43,1; в 1949 – 25,0; в 1950 – 26,0 % от общего числа работников, набранных по оргнабору [40, с. 52–53]. Для сравнения: суммарная доля работников, набранных через систему оргнабора для предприятий трех отраслей (угольной, нефтяной промышленности и цветной металлургии), составляла: в 1947 г. – 26,1 %; в 1948 – 19,2; в 1950 г. - 32,1 % [40, с. 52-53]. На протяжении 1946–1950 гг. значение оргнабора постепенно снижалось. В 1950 г. его доля среди других форм привлечения рабочих составляла: в промышленности – 14 %, в строительстве - 36 % [35, с. 32]. Через систему оргнабора на предприятия привлекалось преимущественно сельское население.
На оборонных предприятиях также использовался труд рабочих, набранных по оргнабору, но их доля от общей численности работников была несущественной. Малоквалифицированные работники, набранные по оргнабору, в атомном проекте использовались преимущественно в строительстве и на предприятиях «смежников», а на атомных объектах трудились более квалифицированные кадры [23, с. 461].
Важную роль в решении кадровых проблем играли учебные заведения Министерства трудовых резервов, в которые мобилизовалась молодежь 14–17 лет. На декабрь 1946 г. по всему СССР действовало 2 488 таких учебных заведений, из них 1 311 школ ФЗО и 1 177 ремесленных и железнодорожных училищ; общий контингент учащихся составлял 603,2 тыс. чел.13 К началу 1948 г. в стране действовало 4 197 учебных заведений трудовых резервов с 1 024 тыс. учащихся [8, с. 367]. Из общего количества поступивших в школы ФЗО за 1946–1952 гг. 86 % были выходцами из сельской местности; среди принятых в ремесленные училища их было 54 % [40, с. 59]. Большинство выпускников данных учебных заведений направлялись на предприятия тяжелой индустрии.
В 1948 г. 75 % выпускников были направлены на предприятия угольной промышленности, металлургии, промышленного и военного строительства14. Доля рабочих, поступивших на советские промышленные предприятия через данную систему, в 1950 г. составила 7 %, в строительстве – 12 % [35, с. 33]. На предприятиях тяжелого машиностроения удельный вес рабочих, принятых из школ ФЗО, упал с 18 % (1945 г.) до 15 % (1951 г.) от общего числа вновь принятых рабочих. В общей численности рабочих отрасли доля выпускников системы трудовых резервов непрерывно росла – с 18,0 % (1945 г.) до 21,2 % (1949 г.) [36, с. 6].
На предприятия министерств, где было сосредоточено военное производство (вооружения, авиационной, судостроительной промышленности, сельскохозяйственного и транспортного машиностроения), мобилизовалось меньшее число учащихся системы трудовых резервов. Согласно плану строительства и восстановления школ ФЗО и РУ, указанные пять министерств в сумме должны были ввести в эксплуатацию 45,8 тыс. м2 жилых и учебных площадей для учащихся в 1946 г. и 100,6 тыс. м2 в 1947 г.15 Для сравнения: по Министерству угольной промышленности восточных районов СССР данные показатели составляли 115,2 тыс. м2 и 136,4 тыс. м2 жилых и учебных площадей соответственно16. Выпускники ФЗО и РУ направлялись на предприятия, занятые разработками новых видов вооружения. Например, для комплектования коллективов комбинатов № 813 (Свердловск-44) и № 817 (Челябинск-40) в 1948 г. было выделено 2,7 тыс. выпускников ФЗО (за счет сокращения набора для угольной промышленности и черной металлургии) [1, с. 166]. В системе Первого Главного управления были организованы «свои» техникумы и ремесленные училища для подготовки квалифицированных рабочих, младшего и среднего технического персонала. За 1945–1959 гг. атомное ведомство получило путем передачи ему два училища, организовало пять; создало 11 техникумов и политехникумов [23, с. 461].
Еще одной группой, мобилизуемой для нужд оборонной промышленности, являлись военные строители. Первые военностроительные батальоны для возведения атомных объектов начали формироваться в октябре – декабре 1945 г. из числа военнослужащих действующей армии [32, с. 17]. Впоследствии в них направлялись как демобилизованные, так и новобранцы. К осени 1946 г. на объекте № 859 (Челябинск-65) числилось около 15 тыс. военных строителей, на объекте № 865 (Свердловск-44) – 6,5 тыс., на объекте № 514 – 5,5 тыс. чел. [31, с. 50]. В конце 1940-х – начале 1950-х гг. около трети всех работников, вовлеченных в систему Первого Главного управления, составляли военные строители Министерства внутренних дел [41, с. 379].
Еще одним способом решения проблемы нехватки рабочей силы, востребованным в рамках советской мобилизационной экономической системы, было использование подневольного труда различного спец-контингента: заключенных, спецпоселен-цев, репатриантов, военнопленных и др.
В конце 1947 г. в лагерях ГУЛАГа содержалось примерно 2,2 млн заключенных, из которых около 1,7 млн было задействовано в различных экономических проектах Министерства внутренних дел, а 507 800 работало в системе других министерств и ведомств [16, с. 340]. Лагерный контингент, отличаясь мобильностью и неприхотливостью к условиям жизни и труда, использовался в трудоемких отраслях и регионах с неблагоприятным климатом. Труд заключенных достаточно широко применялся в угольной промышленности. В 1946 г. на комбинате «Молотовуголь» доля спецкон-тингента составляла 44 % от общего числа рабочих, на комбинате «Челябинскуголь» –
68 % [16, с. 340]. Доля спецконтингента, используемого в черной металлургии, в 1946 г. составляла 18 %, сократившись в 1947 г. до 11 %17. Заключенные исправительно-трудовых лагерей были заняты на промышленном и коммунально-бытовом строительстве [21, с. 162; 41, с. 378]. Труд заключенных использовался и на строительстве спецобъек-тов оборонной промышленности (в 1947 г. на этих работах было занято 140 тыс. заключенных [16, с. 368]). На строительство атомных объектов, как правило, направлялись осужденные по уголовным статьям, а осужденные по ст. 58 к работам не допускались [26, с. 93]. В 1947 г. на строительстве объекта Челябинск-40 было задействовано 8 416 заключенных, Свердловск-44 – 6 720, Свердловск-45 – 3 390 заключенных [20, с. 24]. В 1949 г. на строительстве завода № 250 (Новосибирск) трудилось 7,5 тыс. заключенных (что составляло 58 % от общего числа рабочих) [33, с. 81]. Количество спец-строек во второй половине 1940-х гг. возрастало, в 1947–1949 гг. они занимали до 30 % в общем объеме капитальных работ Министерства внутренних дел [41, с. 379]. Как следствие, росло число заключенных, малоквалифицированный труд которых использовался на стройках оборонных предприятий.
В отечественной индустрии широко использовался труд немцев-спецпоселен-цев. На территории Уральского региона в 1949 г. находилось на спецпоселении 162 017 немцев (из них более 50 тыс. чел. – в Свердловской области) [17, с. 275]. Нем-цы-спецпоселенцы работали на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятиях, в угольной промышленности, на предприятиях машиностроения, в строительстве [3, с. 159; 17, с. 278–279; 22, с. 177; 30, с. 52; 43, с. 200]. Их труд использовался на оборонных предприятиях – Кировском заводе, Заводе № 62 Наркомата боеприпасов (Челябинск) [17, с. 280]. Немцы могли занимать различные должности
(ИТР, техников, прорабов, рабочих и т. д.), но постоянные чистки «неблагонадежных» приводили к уменьшению их доли среди ИТР; также нередкими были случаи нецелевого использования квалифицированных сотрудников «на черных работах» [30, с. 53–54; 43, с. 202]. На начальном этапе создания предприятий атомной промышленности на Урале спецпереселенцы были задействованы в промышленном и жилищном строительстве (в 1946 г. около 10 тыс. спец-переселенцев участвовало в строительстве Завода № 817) [19, с. 20], но в 1947–1948 гг. вследствие усиления режима секретности большая их часть была перемещена в Восточную Сибирь и Среднюю Азию.
В отечественной индустрии использовался и труд военнопленных. В подавляющем большинстве они трудились не на объектах НКВД – МВД, а на предприятиях и стройках других наркоматов и министерств. В 1946 г. на отечественные предприятия было направлено 1 851 210 военнопленных. Из них: в топливно-энергетическую промышленность - 410 793 чел., в металлургию и машиностроение - 143 044, в оборонную промышленность и для Министерства вооруженных сил СССР – 319 098 чел. [39, с. 234]. В зависимости от региона размещения военнопленных их труд использовался в различных отраслях индустрии. В Свердловской области - в металлургии, строительстве [5, с. 52–56]; на Кузбассе более 60 % от общего числа иностранных военнопленных были задействованы на угольных предприятиях области [39, с. 238]. На предприятиях тяжелой промышленности труд военнопленных нередко использовался в условиях, близких к экстремальным, на наиболее трудоемких, вспомогательных и низкоквалифицированных работах.
Говоря об использовании различного спецконтингента в оборонной промышленности, не следует забывать о деятельности Особых конструкторских бюро (ОКБ), Особых технических бюро (ОТБ) - засекреченных научно-исследовательских и проектных институтах, где под надзором органов госбезопасности и в послевоенный период работали осужденные ученые и инженеры. ОКБ и ОТБ создавались в Москве, Ленинграде, Рыбинске, Таганроге, Ростове, на Селигере, в Молотове, Казани и других городах. Во второй половине 1940-х гг. ученые-заключенные трудились над созданием новых авиационных двигателей (ОКБ-172, Молотов) [44, с. 384–387], новых марок пороха, зарядов (ОТБ-40, Казань) [27, с. 31–43], новых методов и типов аппаратуры инструментальной разведки (ОТБ-1, Красноярск), добычи и переработки радиевой воды и урановой руды (ОПБ-4, Ухта), изучением продуктов атомного распада (Лаборатория «Б», пос. Сунгуль, Челябинская обл.) [37, с. 124–128]. Труд таких заключенных, безусловно, нельзя назвать низкоквалифицированным. За выдающиеся заслуги ученые и инженеры ОКБ и ОТБ могли претендовать на досрочное освобождение, снятие судимости, награждение орденами и медалями. В означенных ОКБ и ОТБ использовался и труд военнопленных – ученых, инженеров, конструкторов (вывезенных из Германии или обнаруженных в лагерях для военнопленных). Немецкие специалисты принимали участие в разработках новых видов вооружения (ракетостроение, атомный проект, военное судостроение) [7, с. 237]. В 1947 г. в СССР прибыло более 150 немецких специалистов-ракетчиков, которые были размещены на Селигере. Немец доктор Г. Греттруп стал научным руководителем филиала № 1 НИИ-88 [14, с. 26]. В атомном проекте были задействованы такие немецкие ученые, как М. фон Арденне, Г. Герц, Р Депель, Р Рим-мель, К. Циммер, А. С. Кач, И. Г. Борн и др. [37, с. 126]. Всего в советском атомном проекте летом 1948 г. участвовали 324 немецких специалиста [23, с. 461].
Второй важной составляющей механизма кадрового обеспечения предприятий тяжелой и оборонной промышленности была необходимость «закрепления» кадров на предприятиях. Для решения данной проблемы использовались инструменты адми- нистративного и правового регулирования, а также материального поощрения работников. Их соотношение и специфика реализации определялась отраслевой принадлежностью предприятия, его важностью для реализации мобилизационных задач.
Регулирование нарушений трудовой дисциплины (прогулов, опозданий, самовольных уходов с предприятий) имело общую нормативную базу, созданную в первой половине 1940-х гг. Согласно указу Президиума ВС СССР от 26 июня 1940 г., самовольный уход рабочих и служащих с работы карался тюремным заключением (от 2 до 6 месяцев в зависимости от состава правонарушения), а прогул – исправительно-трудовыми работами сроком до 6 месяцев18. Повторный прогул без уважительной причины рассматривался как самостоятельное преступление19. Согласно указу Президиума ВС СССР от 28 декабря 1940 г., практика уголовного преследования распространялась на учащихся, самовольно покинувших учебные заведения системы ГТР20. В соответствии с указом от 26 декабря 1941 г. сотрудники предприятий военной промышленности за трудовое дезертирство приговаривались к тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет21. В годы войны перечень оборонных объектов постоянно расширялся, включая не только заводы, производившие вооружение, но и предприятия других отраслей, производивших продукцию для нужд обороны (угольные шахты, заводы по производству каучука и пр.). В первые послевоенные годы действие данных законов сохранялось.
Из общего числа осужденных за дисциплинарные нарушения работники оборонных предприятий и транспорта составляли 35 % (1946 г.), 26 % (1947 г.), 10 % (1948 г.). В конце 1940-х гг. произошло частичное смягчение законодательных норм, регулирующих трудовую дисциплину. 31 мая 1948 г. был отменен указ от 26 декабря 1941 г. В результате 111 380 чел были освобождены от наказания за нарушение трудовой дисциплины на оборонных предпри-ятиях22. Указ от 26 июня 1940 г. продолжал действовать вплоть до 1951 г. Вышеприведенные правовые механизмы закрепления кадров и регулирования трудовой дисциплины применялись к свободным гражданам. В отношении различных спецконтин-гентов дисциплинарные условия были еще более суровыми – они трудились под надзором вооруженной охраны.
Регулирование вопросов трудовой дисциплины на предприятиях, занятых разработкой новых видов вооружения, имело свои особенности. Специфика кадрового обеспечения атомного проекта фактически исключала принцип добровольности. Кандидатуры лучших ученых, «мобилизуемых» для работы в атомном проекте, рекомендовались И. В. Курчатовым, администраторов, хозяйственников, производственников и рядовых работников «перебрасывали» на новое место работы, не оставляя права отказаться [1, с. 148–152, 163]. Режимность вела к тому, что на протяжении второй половины 1940-х – 1950-х гг. уехать по своему желанию из закрытого «атомного» поселения было невозможно. Работники ОКБ и ОТБ также не имели возможности свободного перемещения. Важность проводимых работ обусловила применение усиленных мер контроля дисциплины труда и применение достаточно жестких санкций в отношении нерадивых работников [1, с. 159–161, 172].
Еще одним инструментом закрепления кадров на предприятиях тяжелой и оборонной промышленности было материальное поощрение работников, а также предоставление им различных льгот. В данных отраслях были более высокие заработки сотрудников23. Например, рабочие строительных организаций Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии имели должностные оклады на 15 % выше, чем работники аналогичных строительных организаций Министерства вкусовой про-мышленности24. На предприятиях тяжелой индустрии работникам предоставлялось улучшенное медицинское облуживание. Согласно постановлению Совета Министров СССР № 1934 от 29 августа 1946 г., рабочим угольной промышленности предоставлялась «первоочередность приема» во всех медицинских учреждениях, расположенных в угольных районах, а медицинские учреждения, обслуживающие рабочих угольной промышленности, должны были в первую очередь снабжаться аппаратурой, медикаментами и перевязочными матери-алами25. Для закрепления кадров на предприятиях правительство использовало различные формы материальной поддержки сотрудников: им предоставлялись ссуды на индивидуальное жилищное строительство и хозяйственное обзаведение, молодым специалистам продавались промышленные товары, строительные материалы, домашний скот и т. д. [9, с. 263; 10, с. 16, 24; 18, с. 65, 67-69, 387-391, 419-422]. Для работ- ников предприятий цветной металлургии с 1948 г. вводились льготы на оплату обучения. Для детей рабочих и мастеров, занятых на подземных работах, рудничном строительстве, в металлургических, химико-металлургических цехах, ИТР и руководящих работников отрасли стоимость обучения в металлургических, горных средних и высших учебных заведениях уменьшалась на 50 %26. В угольной промышленности работникам полагались ежегодное единовременное вознаграждение за выслугу лет от 10 до 30 % оклада (в зависимости от стажа и должности) и пособие по временной нетрудоспособности (при непрерывном стаже работы на предприятии не менее одного года - 100 % заработка, до одного года -60 % заработка)27.
На предприятиях, занятых разработками новых видов вооружения, работникам предоставлялись еще более существенные льготы и выплаты. Помимо более высоких заработков ИТР, рабочим и служащим атомных объектов предоставлялись отпуск продолжительностью 36 дней (для сотрудников вредных цехов), бесплатная спецодежда, ссуды (на покупку скота, мебели и предметов первой необходимости), оплата 70 % стоимости путевок работников в санатории и дома отдыха. Была создана сеть медицинских учреждений при предприятиях и научно-исследовательских учреждениях Первого Главного управления28. Система товарного обеспечения, здравоохранения и медицинского обслуживания, а также уровень обеспечения жильем в закрытых городах были значительно выше, чем в других населенных пунктах [1, с. 170; 24, с. 18-20]. Поощрение отличившихся сотрудников (в первую очередь ученых) было беспрецедентным. Они удостаивались на- град, званий, получали премиальные выплаты, а также дома, квартиры, автомобили [6, с. 113]. Например, в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 10 февраля 1947 г. были премированы: академик И. В. Курчатов – 500 тыс. руб. (50 % первой премии), автомобиль «ЗИС-110»; член-корреспондент Л. А. Арцимович – 300 тыс. руб. (30 % первой премии), автомобиль «ЗИС-110». Согласно постановлениям Совета Министров СССР от 5 марта 1947 г., премии в частичном объеме (от 20 до 50 %) получили 55 сотрудников научных коллективов, занятых исследованиями атомной энергетики и разработками радиометрических приборов (размер выплат составлял от 5 до 350 тыс. руб.), а также работники заводов-изготовителей необходимого оборудования. Общий фонд премирования составил 3 655 000 руб.29
Заключение
Подводя итоги, можно отметить, что механизм кадрового обеспечения, применяемый в послевоенный период на предприятиях тяжелой и оборонной промышленности, в целом был очень схож. Использование мобилизационных инструментов давало возможность аккумулировать трудовые ресурсы в необходимых сферах производства, отбирать лучшие кадры для развития отраслей индустрии. Широкий спектр правовых и административных инструментов контроля трудовой дисциплины, материальное стимулирование труда, а также предоставление льгот и различных выплат работникам позволяли решить проблему закрепления кадров на предприятиях.
Интенсивность применения данных мобилизационных механизмов разнилась, свидетельствуя о реализации принципа главного звена – одного из главных инструментов социально-экономической политики послевоенного периода. Данный принцип, обозначенный В. В. Седовым, предполагал концентрацию ресурсов в том звене экономической системы, от которого зависит успех противодействия нависшей над системой угрозе. Согласно ему, возможно перераспределение ресурсов за счет изъятия из других, менее важных с точки зрения достижения поставленной цели, звеньев экономики [34, с. 21–22].
Вследствие приоритетности развития тяжелой индустрии и военно-промышленного комплекса по отношению к предприятиям легкой промышленности, непроизводственной сферы, сельского хозяйства последние являлись сферой кадровых ресурсов. Путем перевода сотрудников, ухода на производство работников непроизводственных отраслей и мобилизации сельского населения решались кадровые проблемы на предприятиях данных отраслей. Также в качестве источника рабочей силы выступал различный спецконтингент: заключенные, спецпоселенцы, военнопленные и др. Все те же источники рабочей силы использовались и на предприятиях, занятых разработкой новых видов вооружения (ракетостроение, атомный проект), с той лишь оговоркой, что базой пополнения кадровых ресурсов для них являлись предприятия оборонной и тяжелой индустрии. В качестве особенности кадрового обеспечения предприятий, занятых разработкой новых видов вооружения, можно отметить количественно выраженное использование труда спецконтингента – заключенных, военнопленных и др., а также солдат строительных батальонов. По всей видимости, это было обусловлено, с одной стороны, непритязательностью и высокой мобильностью этой рабочей силы, с другой – низким уровнем технической оснащенности строек данных секретных объектов. Даже в 1950 г. на всех объектах атомного проекта было задействовано лишь 138 экскаваторов, 132 бульдозера, 227 кранов, 7,3 тыс. автомашин и тракторов, 175 паровозов, 1,4 тыс. вагонов и 5,0 тыс. лошадей [32, с. 13]. Отсутствие техники означало, что уникальные объекты должны были возводиться за счет массового применения неквалифицированного труда. На данных предприятиях был выше уровень контроля дисциплины труда. Рекомендуемые сотрудники «перебрасывались» на новое место работы, не имея возможности отказаться, жители закрытых городов не могли покинуть его по своему желанию. С другой стороны, наибольшие выплаты и льготы также фиксировались на предприятиях данных отраслей индустрии. Можно согласиться с Е. Т. Артемовым в том, что специфика работы данных предприятий заключалась в «снятии ограничений как в вознаграждении отличившихся, так и при наказании нерадивых» [1, с. 147].
В целом реализация принципа главного звена в решении кадровой проблемы на предприятиях тяжелой и оборонной промышленности фиксировалась не в разрезе работникам наиболее важных объектов – льготы, а работникам остальных предприятий – административное принуждение и усиленный контроль трудовой дисциплины, а проявлялась в более высокой интенсивности применения на предприятиях приоритетных объектов индустрии как позитивных (льготы), так и негативных (принуждение, контроль) форм кадрового обеспечения.
Применение мобилизационного механизма кадрового обеспечения на предприятиях тяжелой и оборонной промышленности дало положительные результаты. В конце 1940-х - начале 1950-х гг. был преодолен дефицит трудовых ресурсов [40, с. 39] в большинстве отраслей тяжелой индустрии. В кратчайшие сроки были созданы новые отрасли – атомная промышленность, ракетостроение, создание которых отвечало внешнеполитическим задачам, стоящим перед СССР.
Список литературы Механизм кадрового обеспечения предприятий тяжелой и оборонной промышленности (1946-1950 гг.)
- Артемов Е. Т. Атомный проект в координатах сталинской экономики. - М.: РОССПЭН, 2017. - 343 с.
- Артемов Е. Т. Научно-техническая политика в советской модели позднеиндустриальной модернизации. - М.: РОССПЭН, 2006. - 256 с.
- Баканов С. А. Проблема обеспечения рабочей силой угольной промышленности Урала в контексте мобилизационных процессов первой половины ХХ века // Мобилизационная модель экономики: исторический опыт России ХХ века. - Челябинск, 2009. - С. 155-160.
- Батов В., Киселев Г., Лебедева Л. Московский университет и советский атомный проект // Бюллетень по атомной энергии. - 2005. - № 8. - С. 87-94.
- Белоусова О. А. Немецкие военнопленные в Кузбассе (1940-1950-е годы) // Вестник Кузбасского института. - 2011. - № 2. - С. 52-56.
- Буданов А. В. Кадровая политика Советского государства в ракетостроительной отрасли в 1957-1962 гг. // Вестник Московского университета. Сер. 8: История. - 2018. - № 6. -С. 97-120.
- Быстрова И. В. Советский военно-промышленный комплекс: проблемы становления и развития (1930-1980-е годы). - М.: ИРИ РАН, 2006. - 702 с.
- Веселов А. Н. Профессионально-техническое образование в СССР. - М.: Профтехиздат, 1961. - 435 с.
- Ветошкина О. В. К вопросу о состоянии трудовых ресурсов региона после Великой Отечественной войны (на примере оборонных заводов УАССР) // Ресурсный потенциал региона на службе отечеству. - Ижевск, 2020. - С. 256-266.
- Ветошкина О. В. Социально-экономическое положение рабочих оборонной промышленности Удмуртии в 1945-1950 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. - Ижевск, 2010. - 28 с.
- Горбунов Ю. В. О понятии «механизм» в экономических науках // Экономика. Профессия. Бизнес. - 2018. - № 2. - С. 17-21.
- Елькина К. В., Пак Г. Ю., Мамонтова Е. О. Теоретические аспекты системы кадрового обеспечения предприятия // Политика, экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия. - 2015. - № 1. - С. 48-54.
- Ерошов М. Е. По специальному заданию правительства (из воспоминаний). - М., 2019. -URL: http://elib.biblioatom.ru/text/eroshov_vospominaniya_2019/go,0/.
- Ершов Н., Жарский А. Советское ракетостроение с 1945 по 1960-е гг. // Защита и безопасность. - 2011. - № 2. - С. 26-30.
- Запарий В. В. Предприятия танковой промышленности Урала в период демилитаризации: 1945-1947 гг. // Экономическая история. - 2016. - № 2. - С. 65-74.
- Иванова Г. М. История ГУЛАГа, 1918-1958: социально-экономический и политико-правовой аспекты. - М.: Наука, 2006. - 438 с.
- Кириллов В. М. Особенности немецкого спецпоселения на Урале (1946-1950-е) // Образование, жизнь и судьба немецких поселений в России. - Маркс, 2016. - С. 274-291.
- Клинова М. А. Государственное регулирование экономических стратегий городского населения РСФСР в первое послевоенное десятилетие. - Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2019. - 428 с.
- Кузнецов В. М. Атомный проект за колючей проволокой. - Екатеринбург: Полиграфист, 2004. - 279 с.
- Кузнецов В. Н. История атомного проекта на Урале: очерки и статьи. - Екатеринбург: Автограф, 2009. - 295 с.
- Маламуд Г. Я. ГУЛАГ местного значения (исправительно-трудовые колонии и лаготделения областного и республиканского Уподчинения на Урале в 1940-х - начале 1950-х гг. // Известия Челябинского научного центра УрО РАН. - 1998. - № 2. - С. 161-170.
- Маркдорф Н. М., Долголюк А. А. Ленинградские немцы на спецпоселении в Кемеровской области (1941-1956 гг.) // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. - 2015. - № 1. - С. 174-184.
- Мельникова Н. В. Источники и приемы кадрового комплектования советского атомного проекта // Via in tempore. История. Политология. - 2021. - Т. 48, № 2. - С. 457-466.
- Мельникова Н. В. Менталитет населения закрытых городов Урала (вторая половина 1940-х-1960-е гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. - Екатеринбург, 2001. - 26 с.
- Мельникова Н. В. Формирование «атомной общности» в СССР: социальные активы, «фильтры» и контуры стратификации // Границы и маркеры социальной стратификации в России XVII-XX вв. - Екатеринбург, 2014. - С. 98-109.
- Новоселов В. Н. Создание атомной промышленности на Урале. - Челябинск: Урал-ГАФК, 1999. - 278 с.
- Нуриев Р. Т., Усманова Д. М. Особое техническое бюро № 40: Казанские «шарашки» на службе у «катюш» // Эхо веков. - 2021. - № 2. - С. 31-43.
- Побережников И. В. Модернизация в истории России: направления и проблемы изучения // Уральский исторический вестник. - 2017. - № 4. - С. 36-46.
- Подъяконов В. М. Военно-техническая политика СССР в послевоенный период. Создание отечественного ракетостроения // Гуманитарный вестник Военной академии Ракетных войск стратегического назначения. - 2019. - № 4. - С. 17-26.
- Разинков С. Л. «Проклят этот Тагил.»: немцы-спецпоселенцы в Нижнем Тагиле в первом послевоенном десятилетии // Город, социум, среда: история и векторы развития. - Нижний Тагил, 2017. - С. 51-55.
- Родькин Д. В. Военно-строительные батальоны в советском атомном проекте // Военно-исторический журнал. - 2014. - № 8. - С. 49-52.
- Родькин Д. В. Солдаты холодной войны: военные строители закрытых городов Урала // Документ. Архив. История. Современность. - Екатеринбург, 2009. - С. 12-35.
- Савицкий И. М. Атомная промышленность в Сибири в условиях «холодной войны» (19481960 гг.) // Вестник Нижневартовского государственного гуманитарного университета. -2009. - № 2. - С. 79-85.
- Седов В. В. Мобилизационная экономика: советская модель. - Челябинск : ЧелГУ, 2003. -177 с.
- Сенявский С. Л., ХлусовМ. И. Индустриальные кадры СССР в 1946-1955 г. // Вопросы истории. - 1965. - № 10. - С. 29-45.
- Смирнов А. В. Рабочие кадры тяжелого машиностроения СССР в 1946-1958 гг. // Исторические записки. - 1962. - Т. 71. - С. 3-24.
- Старикова О. Н. К вопросу об организации в СССР особых технических бюро, использовавших труд заключенных (конец 1920-х - 1950-е гг.) // Вестник Московского университета МВД России. - 2009. - № 12. - С. 124-128.
- Судариков А. М., Никифоров А. Л. Советское государство и наука военно-промышленного комплекса в послевоенное десятилетие. - СПб.: Изд. ГПА, 2014. - 156 с.
- Суржикова Н. В. Иностранные военнопленные Второй мировой войны на Среднем Урале (1942-1956 гг.). - Екатеринбург: Гуманитар. ун-т, 2006. - 500 с.
- Фильцер Д. Советские рабочие и поздний сталинизм. Рабочий класс и восстановление сталинской системы после окончания Второй мировой войны. - М.: Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2011. - 354 с.
- Цепкалова А. А. Принудительный труд в контексте мобилизационной политики: трудовое использование заключенных ГУЛАГа на объектах капстроительства Главпромстроя // Мобилизационная модель экономики: исторический опыт России ХХ века. - Челябинск, 2009. - С. 375-383.
- Черток Б. Е. Ракеты и люди. - М.: Машиностроение, 1999. - 448 с.
- Чупина Е. В. Немцы-спецпоселенцы в Свердловской области (за строками архивных дел) // История репрессий на Урале: идеология, политика, практика (1917-1980-е годы). - Нижний Тагил, 1997. - С. 198-205.
- Шевырин С. А. Судьбы ученых Молотовских «шарашек» (из опыта создания музейной выставки) // Память о прошлом. - Самара, 2020. - С. 384-387.
- Шубарина Л. В. Оборонно-промышленный комплекс на Урале: исторический опыт регионального развития (1945-1965 гг.) // Вестник Военного университета. - 2010. - № 2. -С. 68-73.