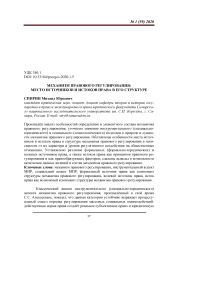Механизм правового регулирования: место источников и истоков права в его структуре
Автор: Спирин Михаил Юрьевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Общетеоретические и исторические проблемы формирования правового государства
Статья в выпуске: 1 (59), 2020 года.
Бесплатный доступ
Произведён анализ особенностей определения и элементного состава механизма правового регулирования, уточнено значение инструментального (специально-юридического) и социального (социологического) подходов к природе и сущности механизма правового регулирования. Обозначены особенности места источников и истоков права в структуре механизма правового регулирования в зависимости от их характера и уровня регулятивного воздействия на общественные отношения. Установлено различие формальных (формально-юридических) и волевых источников права, а также истоков права как принципов правового регулирования и как правообразующих факторов; сделаны выводы о возможности включения данных явлений в состав механизма правового регулирования.
Механизм правового регулирования, инструментальный аспект мпр, социальный аспект мпр, формальный источник права как компонент структуры механизма правового регулирования, волевой источник права, исток права как возможный компонент структуры механизма правового регулирования
Короткий адрес: https://sciup.org/142234044
IDR: 142234044 | УДК: 340.1
Текст научной статьи Механизм правового регулирования: место источников и истоков права в его структуре
Классический анализ инструментального (специально-юридического) аспекта механизма правового регулирования, произведённый в своё время С.С. Алексеевым, показал, что данная категория устойчиво выражает процессуальный смысл порядка регулирования массовых социальных взаимодействий: действующая норма права создаёт реальное субъективное право и юридическую обязанность лица, далее лицо реализует это право (закреплённое модусами дозволения либо управомочия на возможное действие) и обязанность (закреплённую модусами обязывания следовать запрету либо управомочия обязательного действия), обращаясь в установленном порядке к органам публичной власти и их должностным лицам, с помощью акта правоприменения, который они в установленной форме издают; после этого акт правоприменения реализуется, на основании чего субъективное право и юридическая обязанность лица как индивидуализированные меры поведения осуществляются и изначальная норма права, на базе которой были таким образом реализованы субъективное право и юридическая обязанность лица, подтверждает свой действительный статус.
Такой процессуальный, отображающий «момент движения, функционирования правовой формы» [1, с. 97] смысл регулирования социальных взаимодействий, по сути, основан на более ранней позиции Н.Г. Александрова, который определял функционирование механизма правового регулирования в большей степени в сфере реализации правосубъектности лиц в рамках складывающихся правовых отношений, в т.ч. – в сфере юридической ответственности [2, с. 165; 3, с. 183-213].
В своей знаковой для развития отечественной теории права работе «Механизм правового регулирования в социалистическом государстве» 1966 г., а также в главе IX первого тома курса лекций по проблемам теории права 1972 г. и в разделе 7 второго тома курса по общей теории права 1982 г. С.С. Алексеев в развитие позиции Н.Г. Александрова именно в процессуальном смысле определял механизм правового регулирования как «взятую в единстве систему правовых средств, при помощи которой обеспечивается результативное правовое воздействие на общественные отношения» [4, с. 30; 5, с. 150; 6, с. 9; 7, с. 150; 8, с. 267]. Понятие механизма правового регулирования «во всех случаях призвано показать системно-динамический срез правовой действительности» [6, с. 11]. С.С. Алексеев специально указывал на этапы и стадии процесса правового регулирования как на критерий для «обособления ключевых элементов механизма правового воздействия» [6, с. 26].
Тем самым, научная категория механизма правового регулирования подтверждает саму реальность существования права как социального регулятивного явления и прагматичность, а также институционность процедуры правового регулирования. Более широкая научная трактовка механизма правового регулирования с позиции социального (социологического) аспекта механизма действия права осуществляется с включением в состав МПР юридических фактов, описываемых гипотезой действующей нормы права (фактически – включённых в эту гипотезу), а также – правотворческой деятельности (системы действий уполномоченных органов и лиц по созданию и введению в действие самой юридической нормы), которая неразрывно связана с постановкой в правовых актах социально полезных целей и формированием социально полезных образцов поведения [9, с. 37–44; 10, с. 218].
Данный подход изначально противоречит указанию С.С. Алексеева на то, что «правовые явления – процессы (… правотворчество и применение права) при всей их важности в правовом регулировании входят в механизм правового регулирования не непосредственно, а в виде актов, технико-юридических средств и т.д.» [6, с. 25]. В то же время создатель классической концепции инструментального аспекта механизма правового регулирования не отрицает самого факта присутствия юридических процедур в структуре МПР, а лишь указывает на важность точного определения основных форм их внешнего выражения.
Тем самым, как процедура правотворчества, так и процессы реализации права (в том числе – правоприменительная и правоохранительная деятельность) подлежат включению в состав механизма правового регулирования в качестве важных функциональных компонентов [11, с. 107].
Интересно, что в современной германской юридической литературе элементный состав механизма правового регулирования фактически определяется посредством широкой трактовки элементов нормы права, установления порядка их взаимного построения (Aufbau) и принципиального разграничения нормативного предписания (Rechtsnorm; Rechtsregel) и юридического текста (Normsatz; Rechtssatz), который содержит в себе это нормативное предписание (как целиком, так и, что случается гораздо чаще, в определённой части) [12, S. 250–277; 13, S. 20; 14, S. 60, 99]. Так, указывается, что необходимыми структурными частями действующей юридической нормы являются:
-
1) автор (творец) нормы (Urheber der Norm);
-
2) обобщённый адресат (адресаты) нормы;
-
3) состав деяния (Tatbestand как система условий действия нормы);
-
4) должный порядок действия нормы (Sollensanordnung), который выражен в реализации предписания, запрета либо разрешения (deontische Operatoren; deontische Grundmodalitäten);
-
5) правовое последствие (Rechtsfolge) в виде исполнения обязанности, наказания за нарушение либо реализации субъективного права [14, S. 82–84, 100].
-
6) Подобный подход можно также увидеть у французских теоретиков права [15, с. 78–79, 89-90].
Принимая во внимание особенности инструментального и социологического аспектов механизма правового регулирования, можно рассматривать через призму элементного состава МПР проблематику источника действующей нормы права (источника права), поскольку, с одной стороны, формальный источник права подтверждает действительность нормы, даёт возможность единообразной ссылки на неё в процессе реализации права (особенно – в рамках правоприменения), а с другой стороны, само существование такого источника означает завершённость правотворчества как системы действий по созданию норм права и по закреплению их в определённых формах (формальных источниках права). Как справедливо писал С.С. Алексеев, «процесс складывания юридических норм … может быть выражен в виде трёх основных этапов: 1) формирование воли наро- да, требующей опосредствования в нормах права; 2) её юридическое выражение; 3) приданные ей качества действующих норм права» [5, с. 155].
Понятно, что без закрепления нормы права в рамках какой-либо устойчивой формы (закон, судебный прецедент, нормативный договор etc.) и грамотного доведения этой формы до сведения общества (правового информирования) сам процесс правотворчества не может считаться завершённым, а следовательно, такое право ещё невозможно реализовать, поскольку оно является своеобразным «фантомом».
В данном контексте трудно согласиться с А.Ф. Ефремовым, который полагает, что поскольку любой нормативный правовой акт включает в себя совокупность правовых норм, то его вряд ли стоит рассматривать в качестве самостоятельного элемента механизма правового регулирования [16, с. 292]. По аналогии то же самое тогда можно сказать о любом другом формальном источнике права, а между тем, совершенно очевидно, что юридические нормы, входящие в состав этих формальных источников, не могут действовать сами по себе, не обладая необходимой системной оболочкой внешних форм права. Абсолютно прав был в этом отношении С.С. Алексеев, указывая, что «нормативные юридические акты представляют собой такое звено в механизме правового регулирования, которое обслуживает его нормативную основу» [5, с. 156].
Таким образом, как в первом, так и во втором случаях формальный источник права необходимо входит в состав механизма правового регулирования как соответствующая «оболочка» действующих норм права, «защитная» или «знаковая» оболочка, благодаря которой сами нормы права становятся действующими, порождают субъективные права и юридические обязанности лиц и, в конечном счёте, реализуются, создавая социально полезные последствия для различных категорий лиц. Формальный источник в этом случае нужно воспринимать и как внешнюю форму позитивного права, и как проявление итоговой суммы объективного процесса правообразования и субъективного по своему характеру процесса правотворчества (нормотворчества). Поэтому стоит согласиться с В.М. Сырых в том, что три из пяти компонентов социального аспекта механизма правового регулирования носят именно правотворческие черты («механизм формирования права», «социальный механизм правотворчества» и «механизм правового информирования») [11, с. 115].
Механизм правового регулирования в определённом смысле вообще можно рассматривать как необходимый системный инструмент реализации и совершенствования правотворческой деятельности общества и государства, как «технологическую схему, используемую в процессе правотворческой деятельности» и позволяющую при необходимости эту деятельность оптимизировать [17, с. 215217]. При этом формальные источники права, обретающие свою внешнюю оболочку именно в процессе правотворчества, могут рассматриваться как элементы структуры механизма правового регулирования, фактически зависимые от направления соответствующей деятельности субъекта создания права [18, с. 10].
Если разделять категории «формальный источник права» (внешняя форма права) и «волевой источник права» (собственно источник права), то следует обратить внимание на последовательность правотворческих действий уполномоченных лиц, которые сначала 1) выражают свою правотворческую волю по поводу принятия определённых юридических норм, которые далее станут действующими нормами (например, когда проект закона становится принятым в установленном порядке законом), а затем 2) оформляют эту уже выраженную волю в определённой форме, в которой должны наилучшим образом проявить себя при регулировании социальных взаимодействий сами юридические нормы. Данная последовательность действий логично отражает господствующий инструментальный подход к сущности механизма правового регулирования, поскольку для него «характерно строгое деление правового регулирования на стадии» [10, с. 217].
Таким образом, формальный источник права, очевидно, входит в структуру механизма правового регулирования в качестве самостоятельного компонента, а волевой источник права будет предшествовать ему неформально и создавать необходимую идеологическую основу для эффективного действия самого МПР.
Истоки права можно воспринимать, исходя из разной степени абстрагирования от формальных оболочек самого права (внешних форм права). С одной стороны, следует говорить о принципах правового регулирования (особенно – об универсальных принципах-максимах), которые формируют основу для последующего действия конкретных юридических норм (норм-правил). С другой стороны, в качестве истоков права можно понимать сами правообразующие факторы, которые объективно воздействуют на субъектов правотворческой деятельности и способствуют появлению соответствующих формулировок как принципов права, так и более конкретных юридических норм. Так, с точки зрения Т.В. Кашаниной, истоки права – это «обстоятельства, обусловившие появление права и его действие; … объективная реальность» [22, с. 125].
В том случае, если истоки права мы понимаем в философско-правовом смысле и определяем их как концептуальные основы правотворчества (принципы или основания права), то они, очевидно, подлежат включению в состав механизма правового регулирования, поскольку в противном случае практически невозможно объяснить происхождение конкретных юридических норм (норм-правил) и зависимость способов их регулирования социальных взаимодействий от этих принципов права. С другой стороны, теоретико-правовой подход к истокам права (рассмотрение их как системы объективных правообразующих факторов) значительно усложняет картину и, по сути, выводит истоки права за пределы механизма правового регулирования. В этом случае истоки правового регулирования становятся необходимыми условиями для осмысления основных направлений и конкретных способов создания действующих юридических норм в определённых формах (формальных источниках права), и, следовательно, должны рассматриваться как предпосылки для существования механизма правового регулирования как системы действующих средств правовой регуляции социальных отношений (правового воздействия на них).
Из вышеизложенного можно сделать два принципиальных вывода:
-
1. Формальные источники права (внешние формы права) и универсальные принципы правового регулирования, понимаемые как истоки права, необходимо рассматривать в качестве самостоятельных структурных элементов механизма правового регулирования.
-
2. Волевые источники права (способы выражения вовне воли субъекта правотворчества) и объективные правообразующие факторы, понимаемые как истоки права, несмотря на их различную природу, выступают в качестве субъективных и, соответственно, объективных предпосылок для самого существования (функционирования) механизма правового регулирования и, следовательно, непосредственно не входят в его структуру.
Список литературы Механизм правового регулирования: место источников и истоков права в его структуре
- Комаров С.А. Глава V. Механизм правового воздействия / Общая теория государства и права. Академический курс в трёх томах. Т. 3. / отв. ред. М.Н. Марченко. 3-е изд. М.: Норма, 2010. С. 92-113.
- Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948.
- Александров Н.Г. Право и законность в период развёрнутого строительства коммунизма. М.: Госюриздат, 1961.
- Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М.: Юридическая литература, 1966.
- EDN: SIFYFJ
- Алексеев С.С. Проблемы теории права: курс лекций / Алексеев С.С. Собрание сочинений в 10 томах. Том 3. - М.: Статут, 2010.
- EDN: QRWTCN