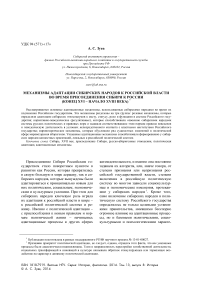Механизмы адаптации сибирских народов к российской власти во время присоединения Сибири к России (конец XVI - начало XVIII века)
Автор: Зуев Андрей Сергеевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются основные адаптационные механизмы, использованные сибирскими народами во время их подчинения Российским государством. Эти механизмы разделены на три группы: ролевые механизмы, которые определяли адаптацию сибирских этносоциумов к месту, статусу, роли и функциям в системе Российского государства; нормативно-поведенческие (регулятивные), которые способствовали освоению сибирскими народами системы русских политических и правовых норм и задавали соответствовавшие этим нормам правила поведения и поведенческую деятельность в условиях непосредственного контакта с властными институтами Российского государства; мировоззренческие механизмы, которые обусловили ряд сущностных изменений в политической сфере мировоззрения аборигенов. Указанные адаптационные механизмы способствовали формированию у сибирских народов ценностных ориентаций, лояльных к российской политической системе.
Сибирь, присоединение сибири, xvii век, русско-аборигенные отношения, политическая адаптация, адаптационные механизмы
Короткий адрес: https://sciup.org/147219177
IDR: 147219177 | УДК: 94
Текст научной статьи Механизмы адаптации сибирских народов к российской власти во время присоединения Сибири к России (конец XVI - начало XVIII века)
Присоединение Сибири Российским государством стало поворотным пунктом в развитии как России, которая превратилась в самую большую в мире державу, так и сибирских народов, которые вынуждены были адаптироваться к принципиально новым для них политическим, социальным, экономическим и культурным условиям. При этом для сибирских народов ключевую роль играла их адаптация к российской власти и шире – к российской политической системе и режиму. Именно с политической адаптации – с приспособления к новым правилам и нормам политической жизни – начинались адаптационные процессы в других сферах жизнедеятельности, и именно она постоянно задавала их алгоритм, или, иначе говоря, от степени признания или непризнания российской государственной власти, степени включения в российскую политическую систему во многом зависели социокультурные и экономические изменения, протекавшие у сибирских народов 1. Кроме того, само включение сибирских народов в политическую систему Российского государства определялось не только целевыми установками правительства, имевшими бесспорно огромное влияние на адаптационные процессы, но и базовыми политическими, социокультурными и психологическими характе-
-
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-01-00027.
ристиками этносоциумов, их способностью к восприятию изменений, владением адаптационными механизмами и умением менять свои нормативно-поведенческие стереотипы. Подавляющее большинство сибирских народов не просто выжило, но и стало успешно развиваться в новой политической среде благодаря не только политике государства, стремившегося действовать не «жесточью, а лаской», но и, в значительной степени, своим адаптационным возможностям, стратегиям и практикам. Это, в свою очередь, сыграло огромную роль в формировании толерантной коммуникации между российской властью и русскими колонистами, с одной стороны, и сибирскими народами, с другой, и, как следствие, в обеспечении длительной стабильности российской политической системы в рамках Сибирского региона.
В историографии обозначенная проблема еще не подвергалась специальному рассмотрению, хотя со времен Г. Ф. Миллера историками и этнографами накоплен значительный массив фактического материала и фактографических интерпретаций, открывающих возможности для ее изучения. В этом отношении особое значение имеет плодотворный анализ отечественными и зарубежными исследователями хода, характера и результатов включения сибирских народов в российское политическое, правовое и социальное пространство, их социальной организации, властных структур и хозяйственно-культурных типов, а также места, функций и трансформаций сибирских этносоциумов в политической и административной системе Российского государства. Правда, при этом полиэтничное, поликонфессиональное и социально разнородное население Сибири рассматривалось преимущественно не столько как субъект исторического творчества, сколько как объект, который структурировался государством. В результате в историографии отсутствует развернутое представление о стратегиях, практиках, формах, вариантах и моделях его приспособления (адаптации) к новой политической действительности. И лишь в новейших исследованиях (В. В. Трепавлова, Л. И. Шерстовой, Л. Р. Павлинской, А. С. Зуева), выполненных с применением культурно-антропологического подхода, рассмотрены отдельные аспекты интересующей нас темы и сделан ряд наблюдений, которые существенно расширяют представления о политической культуре и стереотипах политического поведения разных сибирских этносоциумов и дают много интересного материала для раскрытия и осмысления их адаптационных потенциалов, а также тех факторов, которые определяли механизмы, направления и варианты политической адаптации. Что касается других регионов, вошедших в состав России, то проблемы политической адаптации их населения также только в последнее время оказались в поле зрения исследователей (см., например: [Доржиева, 2007; Гришкина, 2010]).
Адаптация, как известно, обеспечивает выживание, комфортное существование и развитие живого организма в меняющейся окружающей среде. В рамках нашей темы можно говорить о том, что политическая адаптация обеспечивает выживание этносоциумов в новой политической среде, их оптимальную инкорпорацию в структуру новой политической системы. Для сибирских народов проблема политической адаптации была чрезвычайно актуальна в период их включения в состав Российского государства, когда конфигурация политических отношений, связей и структур, бывших в Сибири, кардинально поменялась. Политическая адаптация, будучи динамическим процессом взаимодействия социумов-адаптантов и адаптирующих политических систем, включала в себя много аспектов. У разных сибирских народов она протекала разными темпами, имела разные варианты, характер и многочисленные нюансы своего проявления. В данной статье, опираясь на теоретикометодологические подходы, разработанные в социологии и политологии 2, рассматриваются основные адаптационные механизмы, использованные сибирскими народами в период их подчинения российской властью. Эти механизмы, принимая во внимание их взаимосвязь и взаимообусловленность, можно разделить на три группы: ролевые, нормативно-поведенческие (регулятивные) и мировоззренческие.
Ролевые механизмы определяли адаптацию сибирских этносоциумов к месту, статусу, роли и функциям, которые отводило им Российское государство. В рамках этих механизмов решающее значение имело то обстоятельство, что значительная часть сибирских народов, в первую очередь те, кто обитал в южной части Сибири, знала стабильные формы социальной стратификации, властных структур и политической зависимости одних этнотерриториальных сообществ от других. Эта зависимость была представлена издавна существовавшими у них институтами данничества и кыштымст-ва. Кроме того, все народы этой части Сибири в той или иной степени накануне и в период подчинения Россией были включены в конфигурацию взаимоотношений с более сильными в военно-политическом отношении соседями, как, например, сибирские татары – с Ногайской ордой и Бухарским ханством, алтае-саянские тюрки – с енисейскими кыргызами, монголами и бурятами, кыргызы, буряты и забайкальские тунгусы – с монголами, предбайкальские тунгусы – с бурятами, амурские дауры и дючеры – с маньчжурами.
Огромную роль играло и традиционное мировоззрение аборигенов Южной Сибири, которое было «пронизано идеей о том, что все живое является чьими-то подданными и обязано платить подати» [Шерстова, 2008. С. 225], а также представление кочевников, входивших некогда в состав Великого Монгольского улуса, а затем возникших на его развалах монгольских и тюркских государственных образований о «легитимности земельного владения только в форме пожалования от монарха» [Трепавлов, 2012. С. 161]. Соответственно указанные народы, будучи психологически готовы подчиняться и платить дань, переориентировали свое подчинение на того, кто был сильнее и мог защитить – русскую власть, которая предложила уже знакомые им формы подчинения. Для таких народов фактически происходила смена одного господина другим, причем их собственный статус – «подданных» или находившихся под чьим-то протекторатом – кардинально, по крайней мере, на первых порах, не менялся. В связи с этим весьма показательно, что уже на четвертый день после взятия ермаковыми казаками столицы Сибирского юрта к ним с дарами явился хантыйский князец Бояр, а затем последовали мансийские князцы Ишбердей и Суклем и другие «иноязычные» князцы, бывшие до этого в «вассальных» отношениях к хану
Кучуму. На контакт с казаками пошли и некоторые представители татарской властной элиты [Миллер, 1999. С. 220, 221, 234].
Смена сюзерена вполне адекватно осознавалась самими аборигенами. Так, к примеру, чатские татары свое восприятие изменения политической ситуации выразили в следующей формулировке: «По ся деи места мы государю не служили и ясаку не давали, блюлись Кучюма царя… а нынеча деи Ку-чюма государевы люди побили, и Кучюм деи от нас пошол прочь, и мы все государю служити ради головами своими и ясак с своих волостей давати» [АИ, 1841а. С. 8]. В данном случае срабатывал защитный механизм: уплата дани-ясака и выполнение прочих повинностей в пользу российского монарха рассматривались аборигенами как непременное условие получения взамен покровительства и защиты (протектората), а также обеспечения мирных условий жизни и существования. К тому же все это в увязке друг с другом декларировалось сибирским иноземцам в «государевом жалованном слове», оглашавшемся перед ними уездными воеводами, острожными приказчиками и командирами землепроходческих отрядов от имени великого государя. Вот как, например, эта декларация звучала в наказе енисейского воеводы Н. Веревкина от 9 июля 1639 г. казачьему пятидесятнику С. Родю-кову, направлявшемуся «на Чичюй и на Олекну реку и в иные захребетные реки для ясачного сбора»: «Велети им (служилым людям. – А. З .) призвать в острожек тех землиц ясачных тунгуских князцей и всяких улусных людей, и сказати им государево царево и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии жаловалное слово, чтоб оне князцы и всякие улусные тунгуские люди были на государскую милость надежны, и были б под его государевою царьскою высокою рукою послушны, и ясак бы с себя и с своих улусных людей великому государю платили, как протчая их братья тунгуские и яколские и иных землиц ясачные люди государю ясак платят, а государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии их князцов и всяких улусных ясачных людей пожалует своим царьским жалованьем, и велит их оберегать от иных землиц своим государевым служилым людем Енисейского острогу» [ДАИ, 1846. С. 161].
Ведя речь о способности сибирских народов к политической адаптации, в расчет следует принимать и существовавшую у них традицию «договорного» («дипломатического») дарообмена. Как заметил еще Г. Ф. Миллер, анализируя характер русско-аборигенных отношений, «брать и получать подарки настолько в обычае у всех восточных народов, что никакая дружба не может без них существовать» [2005. С. 13]. На «договорном» дарообмене во многом базировались бывшие в Сибири отмеченные выше формы политической зависимости. И практика такого дарообмена (ясак в обмен на подарки – «государево жалованье» и «государев корм») была, с одной стороны, активно использована русскими для объясачивания и подчинения сибирских народов, а с другой – существенно облегчала их первоначальное включение в российское политическое пространство. Правда, следует отметить, что у разных народов, знавших систему господства-подчинения, переориентация с прежних «господ» на новых или потеря статуса «господ» (у татар Сибирского юрта, пред-байкальских бурят) происходила разными темпами, имела свои особенности (в частности, практику многоданничества у народов юга Сибири), сопровождалась попытками непризнания и сопротивления русской власти, а для некоторых явилась серьезным потрясением, поскольку вела к существенной перестройке хозяйственных занятий, властных структур и даже основ мировоззрений 3.
Сложнее и медленнее происходило привыкание и приспособление к роли «налогоплательщиков» тех народов, для которых данничество, аманатство (заложничество) и стабильные властные институты являлись принципиальной новацией, – самоедов, юкагиров, чукчей, коряков, ительменов, части тунгусов, обитавших в северных и северовосточных районах Сибири, тех, кого землепроходцы нередко звали «люди дикие вольные» [Обдорский край…, 2004. С. 41, 44], «люди дикие, что звери» [Открытия…, 1951. С. 217]. Как свидетельствуют документы, при первых встречах с русскими они просто не понимали, о чем идет речь, заявляя: «они де того не знают, какой ясак и как государю давать» [Там же. С. 143]. И в этих случаях практика дарообмена, также известная данным народам, играла огромную роль в их постепенном привыкании к системе господства-подчинения и к своему новому статусу 4. Более того, всю систему «политических» отношений с русской властью они долгое время выстраивали в рамках «договорного» дарообмена 5. Достаточно быстро эти «дикие» народы усвоили – опять же из «жалованного слова» – и взаимосвязь уплаты ясака и приобретения протектората. Можно привести немало свидетельств того, как их отдельные территориальные группы требовали от русских защитить их от немирных соседей, четко сопрягая получение защиты со своей обязанностью давать ясак: «а которые иноземцы великого государя ясак платят, и те у ясачного платежу говорят: ясак де с нас просите, а от неясачных коряк и чукчей не обороняете» [ДАИ, 1867. С. 351]. Но тем самым они, даже несмотря на свои частые «измены», свыкались со статусом ясачноплательщиков и необходимостью подчиняться русской власти.
В выработке ролевых адаптационных механизмов, имевших огромное значение для формирования лояльного поведения аборигенов в новых политических условиях, весьма заметным был вклад потестарной элиты. Потерпев поражение в попытках оказать вооруженное противодействие русской власти, эта элита (у значительной части сибирских народов) быстро перешла к сотрудничеству с ней. Формат сотрудничества задавался центральной и местной администрацией: возложение на «вождей» ответственности за сбор ясака и выполнение других повинностей, за правопорядок на подведомственной территории, за осуществление судопроизводства по мелким делам и т. д. Но и сама элита приняла русские «правила игры», поскольку они способствовали укреплению, а нередко и расширению ее власти в рамках дозволенного 6.
Элита в силу своего властного положения сыграла роль механизма, скреплявшего этносоциумы с российской политической системой. Она сама активно стала включаться, или, по крайней мере, предпринимала усилия, чтобы включиться в новые политические связи, приспособиться к новым реалиям. В рассматриваемое время немало представителей элиты местных народов по собственной инициативе побывали в Москве, где некоторые из них удостаивались даже аудиенции у царя. Эти поездки свидетельствуют о том, что аборигенные «вожди» (по крайней мере, многие из них) быстро усвоили основной принцип российского государственного управления – все важнейшие вопросы решаются в столице и по возможности лично «великим государем». И, как правило, все просьбы, с которыми они обращались к царю в Москве, удовлетворялись, и в Сибирь они возвращались, имея на руках грамоты, подтверждающие их властный статус, права на землю и кышты-мов. Кроме того, поездки в Москву, а тем более встречи с царем создавали у них иллюзию установления личных связей с верховным правителем, что повышало их статус в глазах как сородичей, так и местной русской администрации. Некоторые из таких поездок, результаты которых имели большое значение не только для «вождей», но и их соплеменников, запечатлелись в памяти народа, приобретая знаковый характер (см., например: [Летописи…, 1940. С. 18; Патканов, 1999. С. 113–121]).
Наиболее ярко включение элиты, ведшей за собой соплеменников, в новую политическую систему выразилось в принятии ею предложенных русской стороной служебных отношений. Как отмечал Г. Ф. Миллер, службу вместо уплаты ясака «сибирские народы очень ценили, так как она выражала доверие к ним, и это последнее ими часто оправдывалось» [1999. С. 308]. К службе «великому государю» сибирские иноземцы стали привлекаться с конца XVI в. Это привлечение осуществлялось в трех вариантах [Зуев, Люцидарская, 2010].
Во-первых, в качестве вспомогательных отрядов, когда иноземцы, преследуя часто свои собственные интересы и выступая в роли союзников, участвовали в военных ме-
-
[1937] и Е. М. Залкинда [1958], якутских – С. А. Токарева [1940; 2012] и В. Н. Иванова [1999].
роприятиях русских властей (иногда выступали их инициаторами), способствовали подчинению еще неясачных народов, строительству русских укрепленных пунктов (изредка даже инициировали это), помогали продовольствием и средствами передвижения, обеспечивали вожами и толмачами. На этом поприще особо активно проявили себя кодские ханты, красноярские «подгородные» канские, качинские и аринские «татары», забайкальские буряты и тунгусы (эвенки). К походам против неясачных и немирных иноземцев, в том числе соплеменников, особенно в период их подчинения, привлекались также отдельные роды якутов, юкагиров и коряков.
Во-вторых, в формировании из сибирских татар, в первую очередь из их военно-потестарной элиты (беков, мурз и других «лучших людей»), отдельных подразделений в составе русских гарнизонов Тобольска, Тюмени, Тары, Томска, Кузнецка, Красноярска.
В-третьих, в зачислении в служилые люди, в том числе в высшие чины детей боярских и дворян, отдельных представителей властной элиты и рядовых «улусных» людей, крестившихся в православие.
Важная роль служебных отношений в процессе политической адаптации сибирских народов, особенно тех, кто до появления русских являлся «господами» и имел кыштымов, ярко высвечивается на примере негативного опыта взаимоотношений русских и енисейских кыргызов. Последние предлагали русскому правительству служебный вариант своей инкорпорации в политическую систему Российского государства по примеру сибирских татар: «Чтобы де государь нас пожаловал и ясаку с нас имать не велел, а велел бы нам служить». Однако русская власть не пошла на это, в результате чего лишила кыргызов, считавших себя привилегированным «военным сословием» и не мысливших себя в роли ясачноплательщиков, возможности на приемлемых для них условиях адаптироваться к новой политической системе [Шерстова, 2005. С. 31, 32, 41; Бутанаев, 2007. С. 65–66], и, как следствие – развитие русско-кыргызских отношений вплоть до начала XVIII в. шло преимущественно в русле жесткой конфронтации.
Служебные отношения способствовали не только укреплению русской власти над сибирскими народами, но и формированию представлений самих служилых иноземцев о своем месте в новой для них политической системе. Участие в военных действиях вместе с русскими, в том числе нередко против «соплеменников», в обеспечении русского правопорядка и в сборе ясака приводило к тому, что эти иноземцы стали презентовать себя как «государевых слуг». Первоначально такая презентация осуществлялась несомненно с подачи местных русских администраторов и служилых людей, которые через толмачей разъясняли «сослуживцам»-або-ригенам специфику их нового положения. Затем она стала восприниматься как данность. В результате в оппозиции «своих» (верноподданных русского царя) и «чужих» («немирных», «изменников», не подданных) они вставали в ряды «своих» и таковыми себя и считали, т. е. у них происходило изменение самоидентификации.
Так, уже в 1600 г. тюменские служилые татары подчеркивали: «Все… мы люди государевы» [Миллер, 2000. С. 187]. В 1629 г. канские князцы Сота и Тымак ставили русские власти в известность, что «на братцких де людей… идти войною с казаками вместе готовы, и государю де служить со всеми своими людьми» [Там же. С. 411]. В 1649 г. кодские ханты гордились тем, что «с прошлых, государь, годов, с Ермакова взятья Сибири… отцы наши и братья, и мы городы и остроги во всей Сибири ставили и на твоих государевых изменников и ослушников, на колмацких людей и на татаровей, и на остяков, и на самоядь, на тунгусов и буляш-ских людей, и на всяких ослушников служили мы, с тобольскими и березовскими казаками за один ходили» [Бахрушин, 1955. С. 122–123]. В 1675 г. якутские князцы в своей челобитной сообщали следующее: «Князец Ника Мымыков з братьями и с родниками своими и с улусными людми… на иных непослушных якутов розных родов… вместе с служилыми людми в походы ходили войною, и куяки и кони служилым лю-дем давали… А одейские якуты князца Сер-гуя родники иво и улусные люди сами с служилыми людми вместе в поход ходили на непослушных якутов для приводу под твою государеву царскую высокую руку…» [Токарев, 2012. С. 291]. В конце XVII в. буряты, подведомственные Итанцинскому острогу, указывали на давнее боевое содружество с нерчинскими казаками: «А мы, хо- лопи твои, в Нерчинском уезде в Ытонцын-ском зимовье многие годы служили с нерчинскими старыми казаками тебе, великому государю, за едино радетельно без пороку и против неприятельских воинских людей бьемся, не щадя голов своих» [Залкинд, 1958. С. 125]. Подобного рода челобитных, как коллективных, так и индивидуальных, в которых «верные» иноземцы, расписывая свои службы «великому государю», соотносят себя с «государевыми» служилыми людьми, можно привести немало. Служба иноземцев отмечалась и в так называемых «послужных списках», фиксировавших их участие наряду с русскими служилыми людьми в боевых действиях. Изменения в самоидентификации наблюдалось даже у отдельных представителей «диких» народов. В качестве примера можно привести челобитную аманата чукчи Апы, который в 1647 г., просясь на царскую службу, дал следующее обещание: «И топерво, государь, я, сирота твой, хочю служить тебе, праведному государю, и во всем прямить и чюхоч своих родников приведу под твою, царскую, высокую руку» [Открытия…, 1951. С. 254– 255].
Приведенные высказывания иноземцев свидетельствуют также о том, что служба являлась важным компенсаторным механизмом: она компенсировала шок от кардинальных политических изменений, позволяла адаптантам почувствовать свою сопричастность к новой политической системе. Кроме того, «верстание» на русскую службу предоставляло возможность отдельным представителям местных народов в индивидуальном порядке из низкостатусной (ясачной) группы перейти в более привлекательную высокостатусную (служилую) группу. И этим нередко пользовались представители маргинальных слоев иноземцев.
Наконец, служба позволяла сибирским иноземцам овладевать русским языком и благодаря этому – новым значимым политическим опытом, навыками и приемами общения с русской властью и вообще с русскими людьми. Служилые иноземцы и их потомки сыграли роль основного транслятора в аборигенную среду русской политико-правовой культуры. Немалый вклад в это внесли также толмачи и аманаты из числа местных народов, аборигены, по разным причинам оказавшиеся в холопстве у русских, и аборигенки, ставшие законными же- нами или сожительницами русских поселенцев. В связи с этим следует отметить, что уже с первых лет пребывания русских в Сибири между ними и аборигенами стали формироваться патронально-клиентские отношения (в первую очередь между русскими администраторами и аборигенными «лучшими людьми») и семейно-брачные связи, которые также есть смысл рассматривать в качестве важных адаптационных механизмов.
Нельзя не упомянуть и о «языках» и «доносителях». Можно привести много фактов, когда представители сибирских родов и кланов, в том числе вожди, по собственной инициативе вступали в контакты с отрядами землепроходцев, приказчиками зимовий и острогов, сообщая им самую разную информацию о новых «землицах» и народах, извещая о «политическом» поведении своих сородичей и «чужих», их «изменах» и «ша-тости», давая советы, как лучше действовать в той или иной ситуации, предлагая свои услуги по замирению немирных и неясачных иноземцев. Бывало, что такие «доносители» (как правило, изменившие своим сородичам) и «языки» выбывали из своей «породной» среды, крестились и оказывались в числе служилых людей.
Однако значимость потестарной элиты в выработке ролевых адаптационных механизмов не везде была одинаковой в силу разницы ее реальной власти у разных народов. У северных самоедов, тунгусов, коряков, чукчей, эскимосов, ительменов князцы и тойоны не обладали значительными правами, их власть, не имея принудительной силы, держалась исключительно на личном авторитете и распространялась лишь на собственный клан. «Родовичи» смотрели на них как на равных и всегда могли лишить их главенства. В результате попытки русских властей, активно, правда, предпринимавшиеся уже в XVIII в., придать князцам и тойонам народов Севера административные и судебные полномочия не имели успеха.
Нормативно-поведенческие (регулятивные ) механизмы определяли освоение сибирскими народами системы политических и правовых норм, регулировавших отношения индивидов и социальных групп с властью, и задавали соответствовавшие этим нормам правила поведения и поведенческую деятельность в условиях непосредственного контакта с властными институтами Российского государства.
В отношениях с сибирскими народами (но не только, конечно, с ними, но и с собственно русскими подданными также) глава государства – русский самодержец (царь) явно и однозначно позиционировал себя как верховный правитель и судья, исключительный собственник и распорядитель всех земель (которые объявлялись его «вотчиной»), защитник верноподданных и «гроза» «изменников», его власть считалась санкционированной богом и выражавшей его волю. Этот концепт власти в концентрированном виде выражался в «жалованных словах», которые от имени царя оглашались подданным – русским и аборигенам – представителями местной администрации. Включение сибирских народов в политическое и отчасти в правовое поле Российского государства сопровождалось явно выраженным процессом переформатирования существовавших у них социальных и потестар-ных структур и отношений в направлении адаптации последних к российским государственным институтам и социально-политическим практикам, навязыванием сибирским народам новых (русских) политических понятий и правовым оформлением этого процесса, а также реорганизацией властных вертикалей, в результате чего местная по-тестарная элита превращалась в проводников русской политики [Зуев, 2013].
При подчинении русской власти сибирские иноземцы давали шерть – клялись в верности лично русскому царю. Шертова-ние – принесение клятвы – являлось формальным политико-правовым актом, призванным закрепить сибирских иноземцев в русском подданстве, обеспечить их верность русскому царю и легитимировать его власть над ними. Шертование, как бы оно первоначально не воспринималось самими иноземцами и какой бы поначалу реальный характер не имело (от безусловного подданства до установления протекторатных отношений), сразу же привносило в потестар-ную культуру аборигенов новые политикоправовые отношения – превращало их, пусть даже на первых порах и формально, в людей, подвластных «великому государю» 7
, но при этом оно осуществлялось в соот-
7 Особо оговорим, что речь идет о шертовании тех народов, которые стали реально подданными Русского государства. Хотя были и ситуации, когда шерто-вание (енисейских кыргызских князцов, хотогойтских ветствии с принятыми у сибирских народов обрядами принесения клятвы: мусульмане шертовали на коране, ламаисты – по ламаистскому обряду, язычники – по своей вере, как у кого было принято. Таким образом, привнесение новых нормативов поведения облекалось в сакральные формулы, уже известные аборигенам, благодаря чему облегчалось освоение ими самих нормативов.
С момента принесения шерти российский монарх присваивал себе право «жаловать» (жизнь, земли, род занятий, «государево жалованье»), защищать и наказывать своих новых подданных, а последние обязывались ему давать ясак, быть «на веки неотступно в прямом ясачном холопстве», «служить и прямить во всем по своей шерти» и вообще делать все, что он от них потребует. Для иноземцев верховной властной инстанцией во всех ее возможных ипостасях становился царь, они были поставлены в ситуацию, когда решение многих вопросов, в том числе относившихся к их внутренней жизни, оказалось зависимым от его воли (точнее, конечно, от центральной и местной администрации). И они очень быстро благодаря толмачам, местным администраторам, служилым и прочим русским людям осваивали требуемые русской властью бюрократические процедуры, в том числе практику чело-битий на царское имя, учились ими манипулировать в различных ситуациях, в том числе возникавших в их внутренней жизни [Слезкин, 2008. С. 45]. Заодно они овладевали необходимой делопроизводственной лексикой, включая русскую социальную, политическую и административно-территориальную терминологию («князцы», «лучшие люди», «волости», «землицы» и т. д.), привыкали однозначно идентифицировать себя как людей, находившихся в полной власти «хозяина»-царя: в обращениях к нему назывались «сиротами» и «холопами».
Сохранилось огромное количество индивидуальных и коллективных челобитных иноземцев с самыми разными просьбами, касавшимися выполнения службы и повинностей, уплаты ясака, хозяйственной деятельности, поземельных отношений, освобождений похолопленных, взаимоотношений с русскими людьми и «иными» иноземцами. Достаточно рано появляются и обращения алтын-ханов) не давало результата, желаемого русской стороной.
с жалобами на действия «родовых» вождей, «лучших людей» и соплеменников, в том числе затрагивавшие интимную сферу – семейно-брачные отношения. Равным образом и «родоначальники» при решении многих вопросов, касавшихся их «подчиненных», начинают обращаться за помощью к русской администрации. Нередкими были и случаи подачи коллективных челобитных от иноземцев и русских.
Важно отметить, что в челобитных, аргументируя свои жалобы, претензии и требования, иноземцы нередко демонстрировали (первоначально, надо полагать, с помощью опять-таки толмачей и казаков-землепроходцев) знания основных положений русской «аборигенной» политики. В этом отношении показательна оценка, данная в царской грамоте (до июня 1636 г.) верхотурскому воеводе: «И верхотурские многие ясачные люди живут промеж руских людей и рускому обычью навычны и то им ведомо, что по нашему указу правежем на них нашего ясаку править не велено…» [АИ, 1841б. С. 348]. И даже «дикие» народы быстро знакомились с нормативами, регулировавшими их взаимоотношения с русскими. Так, к примеру, в 1697 г., когда В. Атласов взял ясак с коряков, обитавших на р. Пенжина, те пожаловались на него ясачному сборщику Л. Морозко: «Он, Володимер, в Пенжинских острожках имал с холопей ваших ваш великих государей ясак с Акланского и Каменского и Усть-Таловского острожков и Уйка острожек погромил и родников наших прибил всех, а жен и детей имал в полон неведомо каким обычаем и по какому указу, а в прежние годы мы, холопи ваши, слыхали от своих родников и от служилых людей, что де служилыя люди ясачных людей не громят» 8. Эта жалоба свидетельствует, что коряки имели представление о том, как «по закону» должен происходить сбор ясака.
По своему формуляру, приемам и характеру изложения сведений, определенной расстановке акцентов, призванной преувеличить степень обнищания и разорения, челобитные иноземцев были схожи с челобитными русских людей. Абсолютно так же, как и русские крестьяне, посадские и служилые люди, аборигены, апеллируя к «государеву жалованному слову», просили царя учинить справедливый суд и защитить от всяких напастей, указывая на то, что в противном случае они не смогут выполнять своих обязательств перед царем: «Чтоб им ясачным людям в конец не погибнуть и великого государя ясаку не отбыть» [ДАИ, 1857. С. 402], «чтоб нам, сиротам твоим, вконец не погибнуть и от твоего бы, великого государя, ясаку и поминков и воеводских и дьячьих настоящего окладу не отбыть» [Материалы…, 1970. С. 912], и т. д. 9 Могли звучать и более серьезные угрозы: «И естли де великие государи от воевод и от ясачных зборщиков и от толмачей и от подъячих не укажут их оборонить, и у них де иноземцов промеж собою положено: самим всем пропасть и русских людей погубить; и от того де Якуцкая страна разоритца до основания» [Токарев, 2012. С. 286].
Обращение иноземцев к царю, причем частое и массовое 10, является показателем того, что они не просто смирялись с новой политической ситуацией, но и признавали ее как данность со всеми ее элементами: платежом ясака и подношений, выполнением повинностей, несением военной службы, судопроизводством, регулированием социальных и политических взаимодействий как с русскими и российской властью, так и с другими иноземцами, а также внутри собственного сообщества (семьи, общины, рода). И, пожалуй, уже первые случаи подачи иноземцами челобитий царю можно квалифицировать как признание ими своего нового статуса – подданных, как кардинальное изменение характера их взаимоотношений с русской властью (см.: [Павлинская, 2008. С. 171–172]), как «шаг к переориентации общественного сознания коренного населения на терпимое отношение к новой общественно-политической обстановке…» [Иванов, 1999. С. 87]. Причем практика челобитий иноземцев появляется почти сразу, как только они облагаются регулярным ясаком и становятся ясачными людьми. Следует также отметить, что даже во время совместных с русскими «бунтов» и возмущений против воевод (правда, редких) иноземцы играли по «русскими» правилам [Покровский, 1989. С. 113–121, 142, 146–147, 189– 199; Окладников, 1937. С. 116, 147–148; Залкинд, 1958. С. 127–128].
Представители аборигенной властной элиты свыкались с мыслью, что их власть и статус определяются монаршей милостью. И многие из них начали обращаться к царю с просьбами о получении «жалованных грамот» 11, закреплявших эти власть и статус (причем последние оказывались шире, нежели во времена независимости), а затем апеллировать к ним в случае необходимости, а хантыйские, мансийские и якутские князцы, стали добиваться расширения своих властных полномочий [Перевалова, 1999. С. 156–158; Токарев, 1940. С. 82–89]. Со временем некоторые из местных «вождей» (мансийские князья Кондинские и Пелым-ские, хантыйские князья Алачевы, тунгусские князья Гантимуровы, ряд якутских князцов, отдельные представители монгольской знати, перешедшие в русское подданство) добились получения русских служилых чинов – детей боярских и дворян. Равным образом иноземцы (преимущественно оседлые и полуоседлые рыболовы, охотники и скотоводы, а также отчасти скотоводы-кочевники) приняли, освоили и стали активно использовать в своих интересах предложенную русской властью практику документального оформления владения «всякими угодьями» 12. Тем самым они, как коллективно, так и индивидуально признавали право верховного правителя России на обладание и распоряжение их «породными» землями. В этом отношении показательно заявление, сделанное в 1668 г. якутом Чучу-гуром Онюкеевым, вступившим в спор из-за земли со своим соседом, также якутом: « Земля великого государя , как де мне те сенные покосы продавать?» [Токарев, 1940. С. 92] (курсив наш. – А. З .). Очевидно, что
Чучугур применил основополагающее положение русского поземельного права (вся земля в государстве является собственностью царя) для защиты своих сенокосов, однако такой прием свидетельствует и о том, что всего 20 лет спустя после окончательного «замирения» якутов, последние вполне уяснили, как, используя русское право, следует отстаивать свои интересы.
Благодаря разъяснениям, дававшимся русской стороной (прежде всего в «жалованных словах»), у аборигенов формировалось представление о безусловно ключевом значении фигуры монарха. В 1612 г., обсуждая планы восстания против русской власти, пелымские вогуличи связывали возможность его успеха со Смутой в Московском царстве: «Государя де в Москве нет, ныне де одни в Сибири воеводы, а Руских мало во всех Сибирских городех» [РИБ, 1875. Стб. 285]. Из этой фразы можно заключить, что отсутствие верховного правителя представлялось «изменникам» тем фактором, который делал власть русских весьма неустойчивой, и, соответственно, сам правитель рассматривался как главнейший элемент, без которого русская политическая система просто не сможет существовать.
Знакомясь с нормами русского права и применяя их при необходимости, иноземцы также быстро уловили, что решение многих вопросов зависит от личных связей с представителями русской администрации. Как следствие, важнейшим механизмом, регулировавшим поведенческую тактику иноземцев в общении с русскими, стали отношения патроната – клиентелы, когда первые (прежде всего «родоначальники» и «лучшие люди») обретали в лице вторых покровителей и защитников (см., например: [Иванов, 1999. С. 91; Иванов, 1991. С. 64].
Присвоение царем (или шире – русской властью) роли верховного арбитра, вершившего «праведный суд», давало заметный политический эффект: ясачные люди, обращаясь с прошениями и жалобами лично к царю (реально, конечно, в органы местной власти) и нередко добиваясь желаемого для себя решения, привыкали видеть в нем единственного защитника своих интересов, что приводило к укреплению их фактического подданства и признанию царя верховым правителем. «Жалованное слово» с обещанием защиты и покровительства, жалованье подарками и «кормами», адресо- ванные иноземцам лично от государя 13, постепенно распространившаяся практика индивидуального шертования 14, ясак, «почести», «поминки» и челобитные, даваемые иноземцами лично государю, – все это создавало иллюзию прямой и чуть ли не личной связи между государем и ясачными иноземцами и способствовало оформлению прямого реального подданства.
Однако нормативно-поведенческие механизмы включались избирательно, аборигены осваивали и применяли лишь те «русские» нормы поведения, которые обеспечивали им приемлемую для них самих коммуникацию с русской стороной, во внутренней же жизни в обыденной ситуации они предпочитали руководствоваться нормами обычного традиционного права, что признавало и государство. Таким образом, можно говорить о том, что нормативно-поведенческие механизмы позволили аборигенным этносоциумам, не нарушая в целом своих социальных отношений, сбалансированно и оптимально включиться в российское социально-правовое пространство. Но действенность нормативно-поведенческих механизмов резко снижалась по мере снижения уровня социально-политического развития сибирских народов и увеличения их географической отдаленности от реального влияния русской власти. Все те же северные тундровые и отчасти таежные этносоциумы в рамках рассматриваемого хронологического периода оставались вне сферы действия русских правовых норм и вне зоны активных русско-аборигенных контактов. В результате у них просто объективно не возникало актуальной потребности даже в корректировке своих стереотипов поведения. В контактах с ними русская власть сама была вынуждена адаптироваться к их архаичным «правовым» стандартам.
Мировоззренческие механизмы обусловили ряд сущностных изменений в политической сфере мировоззрения аборигенов, в «политическом» компоненте их мироздания. Их выявление возможно главным образом путем анализа фольклорных источников, прежде всего исторических легенд и преданий. Но последние в своей основной массе были записаны, опубликованы и стали объектами изучения лишь во второй половине XIX – XX в. Соответственно, сложно, а зачастую вообще невозможно выяснить, в какое время появилось то или иное фольклорное «произведение», какие временные (относящиеся к какому времени) представления аборигенов оно отражает и к какому именно хронологическому промежутку можно отнести изменения их взглядов на ту или иную составляющую «политической» картины мироздания. Тем не менее вряд ли ошибемся, если станем утверждать, что трансформация «политического» мировоззрения народов Сибири началась почти сразу же после появления в регионе русских и в связи с кардинальным изменением реального политического статуса этих народов, т. е. уже в XVII в. И появление русских, и изменение статуса потребовали мировоззренческого объяснения и обоснования, дабы с помощью логических приемов реконструировать все мироздание, приведя его в соответствие с изменившейся реальной ситуацией.
Знакомство с фольклорными материалами, а также исследованиями, рассматривающими формирование представлений сибирских народов о русских и русской власти (см.: [Кузьминых, 1994; Окладников, 1981; Трепавлов, 2005, 2007; Шерстова, 2008; Перевалова, 2000, 2008; Зуев, 2008; Березиков, 2010] и др.), позволило выделить в «политической» компоненте мироздания аборигенов три новации, которые имеют принципиально важное значение для понимания процесса политической адаптации и которые, хотя в разной степени и разных формах, фиксируются в мировоззрении всех сибирских народов. При этом, что следует подчеркнуть особо, их смысловое содержание зачастую противоречиво и амбивалентно.
Во-первых, появление в Сибири русских и колоссальное влияние, которое они стали оказывать на судьбы сибирских народов, привели к тому, что русские и российская власть (главным образом в лице царя, казаков и чиновников) были включены в аборигенную картину мироздания. В «мировой» истории стала выделяться особая эпоха – «русская». И если в фольклоре народов Южной Сибири, знакомых с резкими и частыми изменениями этнополитической ситуации, в том числе с появлением новых народов, это было не столь явно выражено, то в памяти народов Севера Сибири появление русских зафиксировалось как отчетливый хронологический рубеж. При этом у многих народов «русская» эпоха стала означать наведение порядка в их мироустройстве, прекращение кровопролитных междоусобных войн и установление мира. Хотя для некоторых, особо активно сопротивлявшихся русским, период подчинения запомнился как «время войн».
Аборигенам требовалось объяснить самим себе факт появления русских, и они это сделали, увязав их с известными и понятными реальными либо мифическими событиями, явлениями и персонажами, тем самым включая в привычную картину мира и лишая хотя бы частично опасной сущности «чужих» [Шерстова, 2008. С. 223]. Так, например, население Хакасо-Минусинской котловины объясняло пришествие русских предварительным появлением берез или вообще «новых» деревьев, юкагиры – предсказанием, полученным путем гадания на костях умершего шамана, чукчи считали русских перевоплощением собак, ранее изгнанных ими из своих стойбищ и поселков. У многих сибирских народов русские казаки-землепроходцы ассоциировались с враждебными демоническими потусторонними силами, прибывшими из подземного мира или из «темной» страны, где заходит солнце 15. Со временем указанная ассоциация исчезала, а образ русских обогащался новыми разными, как привлекательными, так и отталкивающими характеристиками, но в целом в стереотипе их восприятия обозначалось все больше позитивных черт [Тре-павлов, 2005. С. 102–105, 110–113]. В результате некоторые народы (обитатели тайги и тундры) включили русского даже в свои космогонические мифы в качестве одного из культурных героев, обычно одного из трех братьев, посланных богом на Землю, от которых пошли разные народы.
Во-вторых, народы Сибири в фольклорных произведениях создали приемлемую для себя трактовку подчинения русским, стремясь объяснить факт своего поражения. В их исторических преданиях и легендах можно найти немало примеров того, как бывшее в реальности силовое принуждение к покорности трансформировалось в изначально исключительно мирное взаимодействие с русскими землепроходцами, причем у некоторых народов (например, хантов, баргузинских и хоринских бурят, юкагиров) на основе некоего договора, оформлявшего добровольное признание русской власти. В тех же случаях, когда в народной памяти (татар, хакасов, предбайкальских бурят, ненцев, энцев, чукчей, коряков, отчасти якутов и тунгусов) зафиксировался силовой вариант подчинения, он нашел оправдание в военном превосходстве (наличии огнестрельного оружия), многочисленности (когда на смену убитым появляются все новые и новые отряды пришельцев), коварстве и жестокости русских казаков, их сверхъестественной силе и способности распространять смертельные болезни. Как верно подметил Н. А. Березиков, «апелляция к неземному происхождению могущества противника снимала представление о собственной слабости. Подобные предания, сохранявшиеся на протяжении веков, помогали смириться с участью покоренных» [2010. С. 56–59]. Но акцент в фольклоре на силовой вариант подчинения все равно, как правило, дезавуировался быстротой установления мирных отношений и, опять же, на основе заключения договора. Подобная трактовка подчинения русским давала возможность сознанию сибирских автохтонов психологически компенсировать собственное бессилие. Такую же компенсаторную функцию выполняли предания об отдельных победах сибирских богатырей над русскими.
В-третьих, народы Сибири включали в свое мироустройство новые для них политические символы и реалии. Наиболее наглядно это видно на восприятии верховного правителя России. Его фигура и его функции, несомненно, под влиянием ценностносмысловой детерминации, задаваемой рус- ской властью, русскими землепроходцами и колонистами, в «политическом» мировоззрении сибирских народов постепенно оформились в сакральном образе «белого царя». Он прочно вошел в политическую культуру сибирских народов уже после их закрепления в российском подданстве – в XVIII–XIX вв., однако его первые наброски обозначились еще в XVII в. Так, в частности, известный кыргызский князец Ереняк в своих письмах, адресованных русскому монарху, называл его «великим белым царем» [Бутанаев, 2007. С. 194, 211].
Исследование, проведенное В. В. Трепав-ловым, убедительно показало, что образ «белого царя», превращенный в неофициальный титул, имел различные варианты возникновения в картинах мироустройства разных азиатских народов. У народов, имевших ко времени активного взаимодействия с русскими традиции государственности (в основном это были степные кочевники), этот титул, вероятно, русский по происхождению, наложился на уже существовавшие у них представления о «белом» – чистом, настоящем, благородном, вольном, самостоятельном – владыке, обладавшем сакральной связью с Высшим (божественным) миром. Иначе говоря, в процессе взаимодействия двух политических культур – русской и «кочевой» – появился синтезированный образ / титул «белого царя». Народы же Севера Сибири, не знавшие государственности, адаптировали с помощью и с подачи русских администраторов этот титул к своим представлениям о мироздании, тем самым компенсировав тот кросс-культурный шок, который они испытали от предложенной русскими системы господства-подчинения [Трепавлов, 2007. С. 5, 6, 13-56; см. также: Перевалова, 2008]). Правда, у некоторых обитателей северо-востока Сибири (якутов, коряков, чукчей) «белый царь» превратился в «солнце-царя», точнее в «солнечного начальника, силача», а у хантов, манси и ненцев он ассоциировался с «белым ханом».
Образ «белого / солнечного царя / хана» нашел отражение в фольклоре почти всех сибирских народов. Царь в нем фигурирует преимущественно как непременный атрибут мироздания, гарант спокойствия и благоденствия, верховный правитель и справедливый судья, защитник от внешних неприятелей и произвола чиновников, но одновременно ему могли быть присущи жестокость, коварство и недостаток ума [Трепавлов, 2007. С. 74, 76]. Включение сибирскими народами вследствие, несомненно, русского влияния этого образа, пусть даже в архаичной и традиционной трактовке, в картины мироздания означало адаптацию ими своей мифополитической культуры и своих моделей общественного устройства к новым политическим отношениям, возникшим в результате подчинения российской власти. И в этих отношениях и моделях фигура русского монарха превращалась в стержнеобразующий и регулирующий элемент.
Отмеченные изменения в картине мироустройства сибирских народов, выполняя компенсаторно-адаптационную функцию, стирали негативное и враждебное восприятие русских и российской власти, которое присутствовало на этапе подчинения и делало их устойчивым и понятным элементом системы мировоззрения и соответственно окружающей реальности. В результате у сибирских народов вырабатывались ценностные ориентации, лояльные к российской политической системе.
Свою, правда, для рассматриваемого времени незначительную роль в политической адаптации играло и восприятие сибирскими народами христианства-православия. Крещение по собственной инициативе (хотя и с подачи местной русской администрации) отдельных представителей «знати» и рядовых аборигенов, несомненно, свидетельствует об осознании ими перехода в веру победителей как важного фактора, способствовавшего включению в новую политическую систему, занятию в ней высокостатусного (по сравнению с ясачноплательщиками) положения, прежде всего, путем верстания в служилые люди. Однако в целом процесс политической адаптации все же опережал процесс христианизации, да и никакой жесткой зависимости между ними не существовало. Вплоть до начала XVIII в. христианизация, как целенаправленная политика, не проводилась. А об ее слабой связи с политической адаптацией свидетельствует тот факт, что народы, у которых в XVII в. утверждались ислам (сибирские татары) и буддизм (забайкальские буряты), весьма успешно включились в российскую политическую систему. В частности, как говорилось выше, из татар-мусульман формировались особые «национальные» военные подразделения в составе городовых гарнизонов.
Представленный выше анализ механизмов политической адаптации сибирских народов к российской власти в период их присоединения Россией является, безусловно, неполным. Мы выделили лишь три ключевые, с нашей точки зрения, группы механизмов и рассмотрели внутри каждой из них лишь основные компоненты. И этот анализ, конечно, можно развертывать и углублять по разным направлениям, принимая в расчет тот факт, что политическая адаптация сибирских народов протекала под воздействием целого комплекса факторов: изменений в хозяйственной деятельности, переформатирования социальной структуры, освоения русской культуры и т. д. Но уже вышесказанное позволяет утверждать, что без учета способности и готовности сибирских этносоциумов к политической адаптации, без знания ее параметров и вариантов реализации невозможно в полной мере понять ход и характер их инкорпорации в систему российской государственности. Обращение к изучению адаптационных процессов в политической сфере подтверждает наблюдения и выводы тех современных исследователей, которые доказывают, что отношение народов Сибири к русским и российской власти определялось в значительной степени господствовавшими у них ментальными установками и культурными паттернами, восприимчивостью к разного рода инновациям и способностью адаптировать эти инновации к традиционным представлениям о мироустройстве, включая, в свою очередь, в эти представления «русский фактор» в качестве важного элемента.
MECHANISMS OF SIBERIAN PEOPLE’S ADAPTATION TO THE RUSSIAN POWER DURING THE PERIOD OF SIBERIA’S ANNEXATION TO RUSSIA
(THE END OF THE XVI CENTURY – THE BEGINNING OF THE XVII CENTURY)
Список литературы Механизмы адаптации сибирских народов к российской власти во время присоединения Сибири к России (конец XVI - начало XVIII века)
- Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб.: Тип. II Отд. собств. Е. И. В. канцелярии, 1841а. Т. 2. 438 с.
- Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб.: Тип. II Отд. собств. Е. И. В. канцелярии, 1841б. Т. 3. 525 с.
- Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в. Новосибирск: Наука, 1991. 401 с.
- Бахрушин С. В. Научные труды. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 3, ч. 2. 298 с.
- Березиков Н. А. Казаки-землепроходцы и аборигены Сибири: первые встречи и рождение образов//Гуманитарные науки в Сибири. 2010. № 3. С. 56-59.
- Бутанаев В. Я. История вхождения Хакасии (Хонгорая) в состав России. Абакан: Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2007. 296 с.
- Гришкина М. В. Удмурты: присоединение и механизмы адаптации в Российском государстве//Российская история. 2010. № 3. С. 119-134.
- Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб.: Тип. Э. Праца, 1846. Т. 2. 280 с.
- Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб.: Тип. Э. Праца, 1857. Т. 6. 500 с.
- Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб.: Тип. Э. Праца, 1867. Т. 10. 504 с.
- Доржиева Е. В. Адаптационно-деятельностные модели культуры традиционной калмыцкой элиты в Российской империи в XVIII-XX вв.//Вестник Российского ун-та дружбы народов. Серия: История России. 2007. № 1. С. 104-116.
- Залкинд Е. М. Присоединение Бурятии к России. УланУдэ: Бурят. кн. изд-во, 1958. 320 с.
- Зуев А. С. Русско-аборигенные отношения на крайнем северо-востоке Сибири во второй половине XVII -XVIII веке: от конфронтации к адаптации//Народонаселение Сибири: Стратегии и практики межкультурной коммуникации (XVII -начало XX века). Новосибирск, 2008. С. 85-154.
- Зуев А. С. Освоение и присвоение Московским государством социально-политического пространства Сибири в конце XVI -XVII веке//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2013. Т. 12, вып. 8: История. С. 61-72.
- Зуев А. С., Люцидарская А. А. Этнический состав сибирских служилых людей в конце XVI -начале XVIII века//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2010. Т. 9, вып. 1: История. С. 52-69.
- Иванов В. Н. Вхождение Северо-Востока Азии в состав Русского государства. Новосибирск: Наука, 1999. 196 с.
- Иванов В. Ф. Русские письменные источники по истории Якутии XVIII -начала XIX в. Новосибирск: Наука, 1991. 212 с.
- Кузьминых В. И. Образ русского казака в фольклоре народов Северо-Восточной Сибири//Урало-сибирское казачество в панораме веков: Тез. докл. науч. конф./Томск. гос. ун-т. Томск, 1994. С. 32-39.
- Летописи хоринских бурят. Хроники Тугулдур Тобоева и Вандана Юмсунова/Пер. Н. Н. Поппе//Тр. Ин-та востоковедения. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. Т. 33. 106 с.
- Материалы по истории Якутии XVII века (Документы ясачного сбора). М.: Наука, 1970. Ч. 1-3. 1269 с.
- Миллер Г. Ф. История Сибири. М.: Вост. лит., 1999. Т. 1. 630 с.
- Миллер Г. Ф. История Сибири. М.: Вост. лит., 2000. Т. 2. 796 с.
- Миллер Г. Ф. История Сибири. М.: Вост. лит., 2005. Т. 3. 598 с.
- Окладников А. П. Очерки из истории западных бурятмонголов (XVII-XVIII вв.). Л.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1937. 427 с.
- Окладников А. П. Туземные легенды о Ермаке (Опыт историко-этнографической интерпретации)//Изв. СО АН СССР. 1981. № 11. Вып. 3. С. 27-37.
- Обдорский край и Мангазея в XVII веке: Сб. док. Екатеринбург: Изд-во «Тезис», 2004. 200 с.
- Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов XVII века на северо-востоке Азии (Сб. док.). М.: Геогр. лит., 1951. 618 с.
- Павлинская Л. Р. Буряты. Очерки этнической истории (XVII-XIX вв.). СПб.: Изд-во «Европейский дом», 2008. 256 с.
- Патканов С. К. Соч.: В 2 т. Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 1999. Т. 2. 320 с.
- Перевалова Е. В. О значении жалованных грамот остяцких князцов//Обские угры: Материалы II Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири»/Омский гос. пед. ун-т. Тобольск; Омск, 1999. С. 156-161.
- Перевалова Е. В. «Русские» в представлениях обских угров и лесных ненцев//Русские старожилы: Материалы III Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири»/Омский гос. пед. ун-т. Тобольск; Омск, 2000. С. 97-100.
- Перевалова Е. В. «Белый царь» в угоро-самодийской традиции//Народонаселение Сибири: Стратегии и практики межкультурной коммуникации (XVII -начало XX века). Новосибирск, 2008. С. 155-185.
- Покровский Н. Н. Томск. 1648-1649 гг. Воеводская власть и земские миры. Новосибирск: Наука, 1989. 388 с.
- Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1875. Т. 2. 1228 стб.
- Сборник документов по истории Бурятии. XVII век. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1960. Вып. 1. 493 с.
- Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера: Пер. с англ. М.: Новое лит. обозрение, 2008. 512 с.
- Степанов Н. Н. Присоединение Восточной Сибири в XVII в. и тунгусские племена//Русское население Поморья и Сибири (Период феодализма). М., 1973. С. 106-124.
- Токарев С. А. Очерк истории якутского народа. М.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1940. 248 с.
- Токарев С. А. Общественный строй якутов XVII-XVIII вв. 2-е. изд. М.: Книжный дом «Либроком», 2012. 416 с.
- Трепавлов В. В. Образ русских в представлениях народов России XVII-XVIII вв.//Этнографическое обозрение. 2005. № 1. С. 102-118.
- Трепавлов В. В. «Белый царь»: образ монарха и представления о подданстве у народов России XVI-XVIII вв. М.: Вост. лит., 2007. 255 с.
- Трепавлов В. В. Присоединение народов Поволжья и Южного Урала//Российское государство от истоков до XIX века: территория и власть. М., 2012. С. 152-183.
- Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и этнокультурная динамика XVII -начала XX века. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. 312 с.
- Шерстова Л. И. Представления о «чужих» в ментальной традиции аборигенов Южной Сибири//Народонаселение Сибири: стратегии и практики межкультурной коммуникации (XVII -начало XX века). Новосибирск, 2008. С. 186-245.