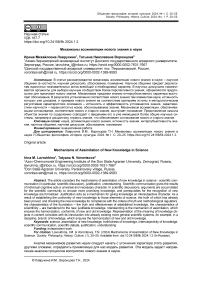Механизмы ассимиляции нового знания в науке
Автор: Лаврухина И.М., Воронцова Т.Н.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются механизмы ассимиляции нового знания в науке - научное общение (в частности, научная дискуссия), обоснование, понимание. Научное общение придает результатам единичных познавательных актов всеобщий и необходимый характер. В научных дискуссиях накапливаются аргументы для выбора научным сообществом более перспективного знания, оформляются предпосылки для признания нового знания. Механизмом придания знанию интерсубъективного характера выступает обоснование. В результате установления соответствия нового знания тем элементам науки, истинность которых уже доказана, и проверки нового знания на соответствие критериям истины и методологическим регулятивам характеристики основания - истинность и эффективность устоявшегося знания, характеристики научности - переносятся на новое, обосновываемое знание. Механизмом ассимиляции, обеспечивающим согласование, соответствие нового и старого знания, выступает понимание. Представление смысла объектов знания по содержанию совпадает с введением его в уже имеющиеся более общие научные системы, например в дисциплину, отрасль знания, что обеспечивает согласование нового и старого знания.
Наука, ассимиляция нового знания, истинность знания, интерсубъективность знания, научное общение, научная дискуссия, обоснование, понимание
Короткий адрес: https://sciup.org/149144761
IDR: 149144761 | УДК: 167.7 | DOI: 10.24158/fik.2024.1.2
Текст научной статьи Механизмы ассимиляции нового знания в науке
В литературе предлагается несколько таких моделей, например модель пульсирующего знания В.В. Ильина (2011: 6–7), модель быстрых изменений в науке Б.Н. Костюка (Интеграция современного научного знания…, 1984: 121–131) и ряд других. Наиболее приемлемой представляется модель, предложенная Э.Н. Елисеевым, Ю.В. Сачковым, Н.В. Беловым (1982), согласно которой развитие науки реализуется не в отдельных идеях, а в потоках идей. Новое знание подвергается оценке со стороны предшествующего, некоторые потоки отсекаются как не оправдавшие себя. Моделью развития знания может служить «шатер (конус), круговые сечения которого изменяются и расширяются по мере удаления от исходного момента зарождения научного знания (от вершины модели)» (Ильин, 2011).
Эта модель отражает увеличение массива знания с развитием науки. Развитие науки представляет собой появление ряда замкнутых систем. Каждая из них имеет тенденцию к размыканию, что и есть создание новой идеи. Тогда возникает более общая замкнутая система, с точки зрения которой обосновывается и объясняется менее общая концептуальная система. Таким образом, наука развивается не посредством улучшения одной системы понятий, а путем развития ряда замкнутых концептуальных систем. Здесь реализуются принципы непрерывности, необратимости и несводимости друг к другу фундаментальных уровней в развитии научного знания.
Предложенное нами описание механизма ассимиляции базируется на указанной модели. Процесс ассимиляции нового знания в науке предполагает его восприятие как индивидуальным, так и коллективным научными субъектами. Способом связи данных субъектов, свидетельствующим о коллективном характере познания, является научное общение. Именно в нем частное достижение индивида вводится в общественное сознание. Более или менее оформившись на индивидуальном уровне, новая идея поступает в общественное обращение, где происходят ее проверка, оценка, уточнение и совершенствование (Мегрелидзе, 2007). Чем большее количество ученых примет участие в поисках и апробировании на истинность нового знания, тем выше шансы, что оно в дальнейшем будет включено в совокупный общественный запас знаний. Таким образом, научное общение выступает механизмом придания результатам единичного познавательного акта всеобщего и необходимого характера и в этом смысле - механизмом ассимиляции.
При этом в научном общении снимается догматизм исследовательской установки отдельного ученого. Наличие множества подходов и возможность критики и обмена результатами исследований обеспечивают движение науки в направлении достижения объективно-истинного знания (это мысль К. Поппера о развитии науки «методом проб и ошибок»).
Одной из форм научного общения и, следовательно, механизмом ассимиляции нового знания в науке выступает научная дискуссия. За рабочее определение дискуссии в науке примем следующее: научная дискуссия – одна из форм научного общения, в которой происходит обмен различными мнениями по какому-либо вопросу (накопление информации) в целях их анализа, сравнения, уточнения и развития (порождения новой информации по данной проблеме).
В научной дискуссии знание уточняется, изменяется и дополняется. Более точно определяется содержание используемых понятий, вырабатываются новые. Ставятся и уточняются новые проблемы в связи с обнаружением так называемых узких мест. Снимается односторонность рассмотрения объекта, в результате рождается новая синтетическая теория.
Примером может служить дискуссия между сторонниками химической и физической теорий растворов, в которых основные положения противоборствующих сторон под воздействием критики видоизменились и быстро нашлись приемлемые для обеих концепций выводы. На первом этапе сторонники химической теории растворов (Д.И. Менделеев) при описании разнохарактерных ассоционно-диссоционных процессов в системе «растворитель – растворенное тело» отождествляли понятие «ион» с понятием «атом», что не позволяло увидеть особые свойства заряженных ионов. Сторонники теории электролитической диссоциации (С. Аррениус: соли, кислоты распадаются в растворах на ионы без воздействия электрического тока) не могли ответить на вопросы о причинах появления ионов в растворах, условиях их существования, происхождении энергии в акте разложения при растворении.
В интенсивной и открытой дискуссии (1887 г.) с участием почти всех крупных физиков-химиков того времени была осознана необходимость связи химизма и электролитической диссоциации. В ней родились идеи И.А. Каблукова и В.А. Кистяковского о гидратации ионов, получила развитие теория о гидратированных и сольватированных ионах, что стало основанием для признания такой связи. В итоге теория электролитической диссоциации приняла такую форму, которая обеспечила ее принятие многими химиками (Роль научных дискуссий..., 1986: 146-161).
В дискуссии стимулируется создание практических средств проверки истинности полученного знания. Так, в дискуссии о природе космических лучей установление широтного эффекта (т. е. изменения интенсивности космического излучения на поверхности Земли в зависимости от геомагнитной широты наблюдения) подтверждало бы гипотезу А.Х. Комптона о космических лучах как потоке заряженных частиц. В результате была осуществлена крупнейшая коллективная работа физиков разных стран: А.Х. Комптон в 1931–32 гг. организовал исследования интенсивности космического излучения в 63 различных пунктах по всему земному шару. Было проведено 8 экспедиций, изготовлены однотипные приборы (Роль научных дискуссий…, 1986: 120–128).
Дискуссия является эффективным фактором формирования новой теории, поскольку ее изложение происходит в предельно аргументированной форме. Для примера приведем дискуссию 1912–1913 гг., связанную с проблемой гравитации (Роль научных дискуссий…, 1986: 102–120). Она может быть представлена как последовательность выдвигаемых теорий для разрешения определенной проблемы. Дискуссия развернулась между А. Эйнштейном, немецкими физиками М. Абре-гамом, Г. Ми и финном Г. Нордстремом. Ученые придерживались различных научно-исследовательских программ. На протяжении нескольких лет каждый выдвинул по 2–3 теории в рамках присущей ему программы. К началу 1914 г. было предложено 10 полевых теорий тяготения, конкурирующих между собой и не обладающих значительными преимуществами по сравнению с другими. Решающими могли бы стать эксперименты по отклонению света в поле Солнца, но они были осуществлены только в 1919 г. В конце 1913 г. дискуссия прекратилась как будто бы из-за равенства позиций.
Дискуссия выявила преимущества тензорной концепции в объяснении гравитации по сравнению со скалярным подходом. Но оппоненты показали внутреннюю противоречивость первой тензорной теории (А. Эйнштейн – М. Гроссман, 1913 г.), заставили А. Эйнштейна вернуться к идеям, ранее им отвергнутым. Он стал более внимательно относиться к аргументам своей и конкурирующей теорий. Тензорная теория 1913 г. хотя и не являлась достаточно убедительной из-за внутренних противоречий, но была шагом к созданию общей теории относительности (ОТО), а дискуссия все более убеждала А. Эйнштейна в правильности установок программы.
Конкуренция теорий подготовила астрономические наблюдения под руководством А. Эддингтона в 1919 г., которые окончательно решили проблему выбора более адекватной теории. Но два из трех оппонентов А. Эйнштейна – Г. Нордстрем и Г. Ми – отказались от своих программ и признали теоретическое совершенство ОТО до наблюдений А. Эддингтона.
Таким образом, в ходе дискуссии одна из последних теорий, учитывая трудности конкурирующих теорий, имея стимулы к развитию с их стороны в виде критики и полученных ими позитивных результатов, достигла такой формы, что не могла не быть признанной.
Отметим также, что в ходе дискуссии происходит приращение знания: появляется новое в гипотетической форме или вероятностное становится достоверным. Это позволяет реализоваться следующим функциям.
-
1. Раскрываются полнота и новизна достигнутого знания, его большая фундаментальность и глубина по уровню отражения области исследования. Старое объясняется с точки зрения нового.
-
2. Происходит систематизация и упорядочивание знания, оцениваются результаты прошлых исследований.
-
3. Популяризируются новые точки зрения, к ним привлекаются представители других специальностей.
Основным результатом дискуссии является тот факт, что новое знание, окрепнув логически и методически, получает предпосылки для ассимиляции в науке.
Научную дискуссию как механизм включения нового знания в массив общепризнанного по достоинству оценивают многие философы науки, определяя ее как «способ теоретической проверки жизнеспособности концепции и форму установления того, является ли данная концепция элементом тезауруса науки» (Б.А. Старостин); «контрольно-пропускную систему» в научном сообществе (М.Г. Ярошевский); «социальный механизм… призванный подвигнуть членов научного сообщества на то, чтобы отстаивать новое знание, еще не ставшее всеобщим достоянием» (Роль научных дискуссий…, 1986: 8).
Дискуссии в науке не сводятся к спорам между отдельными учеными, это объективно-научный процесс, в котором посредством их деятельности, заключающейся в критике и отстаивании определенных взглядов, накапливаются аргументы для выбора научным сообществом более перспективного знания.
Научное знание обладает также характеристикой интерсубъективности. Оно должно рассматриваться как истинное всеми или по крайней мере большинством ученых (разумеется, компетентных выносить свое суждение). В качестве механизма придания знанию общезначимого характера через раскрытие истинности теории выступают процедуры обоснования.
Независимо от того, как определяется обоснование (например, «обоснование есть такая процедура сознания, в ходе которой путем установления той или иной связи между двумя идеальными объектами – основанием и обосновываемым – сообщают второму какие-либо характе- ристики первого» (Никитин, 1981: 27); «поиск предельных, крайних оснований», связанный с получением результата в виде неожиданного предсказания, эксперимента, объяснения (Печенкин, 1991: 100)), общим является то, что оно устанавливает связи между основанием и обосновываемым, чтобы второе получило существенные характеристики первого. В науке таковой выступает истинность, связанная с такими качествами новой теории, как объективность, научная значимость, приемлемость с точки зрения функционирующих в науке идеалов и норм познания. Когда ученые: 1) связывают новое знание с уже признанным как истинное знанием (объяснение, интерпретация); 2) опираются на доказавшие научную ценность умозаключения и правила вывода (доказательство); 3) проводят эксперименты, демонстрирующие соответствие знания действительности (подтверждение, предсказание); 4) сравнивают с соответствующими критериями научности, тогда на новое знание (обосновываемое) и переносится истинность оснований.
Обоснование выступает эффективным механизмом ассимиляции нового знания в науке. В теоретическом исследовании существуют, взаимодействуют два процесса: получение научного результата и его обоснование. Вначале новая теория ориентирована на получение результатов: «Здесь на первом месте успех в решении проблем, поставленных перед теорией эмпирией и прикладным знанием, продвижение к предсказаниям новых фактов и выводам, имеющим практическое значение» (Печенкин, 1987: 54). Если налицо результативность, то до некоторого времени не замечаются некоторые эмпирические и теоретические погрешности, которые, безусловно, есть.
После получения результата наступает собственно обоснование, уточняющее внутренние связи старого и нового знания, проверяющее каждый шаг исследования. Обоснования – это стадия формирования научной теории, когда критически осмысливается накопленное: выявляются понятия и принципы, лежащие в основе теорий, преодолеваются непоследовательности в доказательствах, теоретические выкладки согласуются с многочисленными экспериментами. Происходит «чистка знания», что увеличивает степень его истинности. Обоснование можно назвать интенсивным видом познания. В результате обоснованное знание принимает аподиктический (необходимый) характер. У научного сообщества формируется уверенность в обладании истиной в пределах данной системы. Знание приобретает интерсубъективный характер.
Обоснование нельзя понимать как конечный акт, это интеллектуальный продукт деятельности множества ученых, создание которого может занимать долгие годы. От открытия сверхпроводимости как факта и его практического применения для получения сверхмощных магнитных полей до обоснования эффекта сверхпроводимости и включения его в систему физики твердого тела прошло почти полвека.
Механизмом ассимиляции, обеспечивающим согласование, соответствие нового и старого знания, выступает также понимание. Проблема понимания широко обсуждалась в научной и философской литературе в конце XX в. Как отмечает В.П. Филатов (2023), первые концепции научного понимания развивались в работах К. Гемпеля, М. Фридмана (Friedman, 2000), Ф. Китчера (Kitcher, 1989), У. Сэлмона (Salmon, 1998) и др. В отечественной философии науки сложились два подхода к трактовке сущности понимания: 1) понимание отождествляется с познанием или его определенным моментом (В.Г. Федотова, А.А. Яковлев, Е.К. Быстрицкий, Н.С. Автономова, В.А. Штофф, А.И Ракитов и др.); 2) понимание рассматривается как вид коммуникативной деятельности с центральным понятием «смысл» (Б.С. Швырев, А.П. Огурцов, В.А. Лекторский, Р.И. Рузавин, В.Н. По-рус, С.С. Гусев, Г.А. Тульчинский).
Нам более плодотворным представляется второй подход. Отметим, что и в науке понимание связано с раскрытием смысла соответствующих объектов знания. Кроме того, это происходит в коммуникативных процессах передачи знания от одного человека к другому, что позволяет говорить о субъект-субъектном характере понимания.
Как считают В.И. Кузнецов и Г.И. Рузавин, толкование смысла, расшифровка содержания объектов знания, в которых объективированы результаты познавательной деятельности субъектов познания, и есть понимание (Понимание…, 1982: 43–69; Герменевтика…, 1985: 162–178).
В случае ассимиляции нового знания также возникает проблема его понимания при усвоении, согласовании с прошлым опытом, передаче. Согласование старой и новой теорий идет по линии согласования смыслов их основных идеальных объектов – освоение смысла именно для освоения этих результатов. Представить смысл объекта знания – значит найти связи этого объекта с другими, составляющими систему. Ведь смысл любого объекта знания определяется многообразными связями с другими объектами знания. В этом случае смыслообразование как установление связей с другим знанием совпадает со смыслопредставлением, т. е. пониманием. Для понимания научных фактов необходима их интерпретация с точки зрения какой-либо теории. Понимание теории невозможно без включения ее в научную картину мира.
Включение нового знания в концептуальную деятельность общества – аспект ассимиляции – предполагает вхождение его в наличную концептуальную систему, согласование с элементами этой системы, уяснение учеными интерсубъективного смысла, который оно получает после этого. Понимание – это форма присвоения нового знания коллективным субъектом.
Вне ассимиляционных процессов сама проблема понимания теряет смысл. Если предположить, что существует абсолютно достоверное знание в форме чистых ощущений или отчетливых идей разума, а также истинные моменты его получения, то теряет смысл идея ассимиляции знания в науке. Каждый может из «истинных» источников и с помощью «истинных» методов получать истинное знание, не нуждающееся в дальнейшем совершенствовании. Тем самым снимается и проблема понимания. Общение сводится к простой передаче не вызывающих ни у кого сомнения истин. Разночтения по поводу знания нет, новое принимается всеми и всегда. Истинность знания является этому гарантией.
Однако понимание знания – не инвариант, оно изменяется по мере того, как появляются новые субъекты знания. Понимание нового объекта зависит от концептуальных средств старой теории. Но с введением нового знания в систему меняется и трактовка старых понятий, оно обогащается, углубляется. Происходит это за счет расширения концептуальных связей старого знания, что равносильно трансформации первоначального смысла.
Увязывание нового знания с уже имеющимся, систематизация нового и совершенствование старого знания могут рассматриваться как функции понимания в науке. Наконец, уместно остановиться и на вопросе о субъекте понимания. Для герменевтиков в этом качестве выступает конкретный индивид. Для Г.В.Ф. Гегеля конечный субъект понимания-познания есть все человечество. Субъект понимания в науке трактуется особенно. Поскольку научная деятельность предполагает общение индивидов, то представления обыденного сознания о понимании как субъективной, индивидуальной способности человека к овладению знаниями и навыками, как процесса и результата данной способности небезосновательны. Но понимание в науке не может быть сведено к психологическому процессу усвоения субъектом познавательных результатов.
Во-первых, понимание в науке носит надындивидуальный характер, потому что концептуальная система, задающая смысл объектам знания, является достоянием коллективного субъекта. Совместная деятельность ученых невозможна без владения приблизительно одинаковыми смыслами. Смысл как объект понимания имеет интерсубъективный характер. Во-вторых, процесс понимания результатов познания осуществляется в деятельности многих ученых. Таким образом, конечным субъектом понимания в науке выступает научное сообщество.
Мы предложили рассматривать как механизмы ассимиляции нового знания научное общение (научные дискуссии), обоснование и понимание. Указанные механизмы несут на себе разную методологическую нагрузку. Критическая функция, позволяющая уточнять и совершенствовать знание, свойственна прежде всего научным дискуссиям. Процедура обоснования предполагает выявление степени истинности нового знания. Понимание же в основном обеспечивает согласование нового и старого знания. Однако указанное разделение функций по механизмам не является жестким и возможно лишь в анализе. В научных дискуссиях повышается степень истинности полученного знания, устанавливается соответствие новых познавательных результатов существующей системе, а пониманию и объяснению, в свою очередь, свойственна критическая функция. Речь идет о том, что та или иная функция наиболее полно реализуется в соответствующем механизме наряду с другими функциями. Процесс ассимиляции нового знания в науке предусматривает единство действий не только указанных механизмов, но и ряда других, таких, например, как актуализация, интерпретация, аргументация и др.
Список литературы Механизмы ассимиляции нового знания в науке
- Герменевтика: история и современность: критические очерки: сб. ст. / под ред. Б.Н. Бессонова, И.С. Нарского. М., 1985. 304 с.
- Елисеев Э.Н., Сачков Ю.В., Белов Н.В. Потоки идей и закономерности развития естествознания. Л., 1982. 300 с.
- Ильин В.В. Теория познания. Эпистемология. М., 2011. 138 с.
- Интеграция современного научного знания: методологический анализ / Б.Н. Костюк, В.С. Лутай, В.Д. Белогуб, Г.Ю. Кикец, И.С. Добронравова, Л.И. Сидоренко, Н.Н. Гончаренко, А.Т. Лукьянов, Т.Д. Пикашова. Киев, 1984. 184 с.
- Мегрелидзе К.Р. Основные проблемы социологии мышления. М., 2007. 488 с.
- Никитин Е.П. Природа обоснования. Субстратный анализ. М., 1981. 176 с.
- Печенкин А.А. Обоснование научной теории: классика и современность. М., 1991. 183 с.
- Печенкин А.А. Проблема концептуального обоснования научного знания // Вопросы философии. 1987. № 6. С. 48-57.
- Понимание как логико-гносеологическая проблема: сб. науч. тр. / отв. ред. М.В. Попович. Киев, 1982. 272 с.
- Роль научных дискуссий в развитии естествознания: сб. ст. / отв. ред. М.Г. Ярошевский. М., 1986. 252 с.
- Филатов В.П. От объяснения к пониманию: важный сдвиг в понимании науки // Эпистемология и философия науки. 2023. Т. 60, № 2. С. 6-22. https://doi.org/10.5840/eps202360218.
- Friedman M. Hempel and the Vienna Circle // Science, explanation, and rationality: Aspects of the philosophy of Carl G. Hempel / ed. by J.H. Fetzer. Oxford, 2000. P. 39-64.
- Kitcher P. Explanatory unification and the causal structure оГ the world // Scientific explanation: Minnesota studies in the philosophy of science / ed. by P. Kitcher, W.C. Salmon. Minneapolis, 1989. P. 410-505.
- Salmon W.C. Causality and explanation. Oxford, 1998. 448 p. https://doi.org/10.1093/0195108647.001.0001.