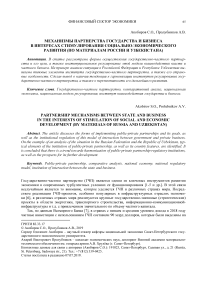Механизмы партнерства государства и бизнеса в интересах стимулирования социально-экономического развития (по материалам России и узбекистана)
Автор: Акобиров Сардор Одилович, Пролубников Андрей Викторович
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Государственное регулирование экономики
Статья в выпуске: 5-1 (119), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены формы осуществления государственно-частного партнерства и его цели, а также институциональное регулирование этой модели взаимодействия власти и частного бизнеса. На примере анализа ситуации в Российской Федерации и Республике Узбекистан выявлены типовые элементы института государственно-частного партнерства, а также его страно-вые особенности. Сделан вывод о наличии тенденции к гармонизации институтов регулирования государственно-частного партнерства, а также о перспективности его дальнейшего развития.
Государственно-частное партнерство, компаративный анализ, национальная экономика, национальная модель регулирования, институт взаимодействия государства и бизнеса
Короткий адрес: https://sciup.org/148319042
IDR: 148319042
Текст научной статьи Механизмы партнерства государства и бизнеса в интересах стимулирования социально-экономического развития (по материалам России и узбекистана)
Государственно-частное партнерство (ГЧП) является одним из ключевых инструментов развития экономики в современных турбулентных условиях ее функционирования [1-5 и др.]. В этой связи неслучайным является то внимание, которое уделяется ГЧП в различных странах мира. Посредством реализации ГЧП-проектов, особенно популярных в инфраструктурных отраслях экономики [6], в различных странах мира реализуются крупные государственно-значимые (стратегические) проекты в области энергетики, транспортного строительства, информационно-коммуникационной-инфраструктуры и т.д. с привлечением значительного по объему частного капитала.
Так, по данным Всемирного Банка [7], в странах с низким и средним уровнем дохода в 2018 году частные инвестиции с использованием ГЧП составили 90 млрд долларов, которые были выделены на
ГРНТИ 82.33.17
Сардор Одилович Акобиров – научный стажер кафедры национальной экономики Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Андрей Викторович Пролубников – кандидат экономических наук, докторант Военной академии материальнотехнического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва (г. Санкт-Петербург).
Контактные данные для связи с авторами (Акобиров С.О.): 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21 (Russia, St. Petersburg, Sadovaya str., 21). Тел.: +7 (812) 339-0425.
Статья поступила в редакцию 07.07.2019.
финансирование 335 проектов. Всего подобные проекты реализовывались в 41 стране, при этом 67% мирового объема инвестиций пришлось на топ-5 стран-лидеров, в число которых вошли Китай, Индия, Турция, Индонезия и Бразилия. Основная причина заинтересованности правительств в привлечении частного капитала в рамках ГЧП-проектов – их чрезвычайно высокая капиталоемкость. В этой связи, правительства, испытывая дефицит источников финансирования, вынуждены привлекать частный бизнес для выполнения, по существу, некоторых государственных функций.
Основная причина участия бизнеса в подобных проектах – прозрачные условия их реализации: за счет государственных гарантий снимается неопределенность рыночной среды, нивелируются риски, повышается точность и достоверность оценки будущих финансовых потоков, генерируемых в рамках ГЧП-проектов. Заинтересованность бизнеса в участии в ГЧП-проектах подтверждается данными о структуре их финансирования. Если рассмотреть проекты, реализовывавшиеся в 2018 году, то Всемирный Банк приводит следующие данные [там же]: частные источники финансирования проектов составили 64% от общей суммы, государственные источники – 17%, институты развития – 19%.
Следует подчеркнуть, что высокая привлекательность ГЧП отмечается не только в развивающихся, но и в развитых странах и регионах. Так, по данным Европейского экспертного центра ГЧП [8], в 2018 году в Европе было реализовано 39 подобных проектов на общую сумму 14,6 млрд евро. Несмотря на то, что европейский рынок ГЧП несколько уменьшился в объеме по сравнению с 2017 годом (в стоимостном выражении на 4% и в количественном выражении на 11%), тем не менее, объем его является весьма значительным. Наиболее крупными национальными рынками реализации ГЧП-проектов были Турция (по стоимости) и Франция (по количеству проектов). При этом, транспорт был крупнейшим сектором с точки зрения стоимости проектов, а образование – с точки зрения их количества. Как и по данным Всемирного Банка, по сведениям Европейского экспертного центра ГЧП, частный вклад в ГЧП в Европе был существенным: около половины объемов финансирования пришлось на частный сектор.
Несмотря на популярность института ГЧП в мире, в некоторых странах мира он пока еще недостаточно развит. В частности, в Узбекистане ГЧП находится на стадии «зарождения» и пока еще имеет ограниченную практику имплементации в экономике. Ожидается, что с принятием Постановления Президента Республики Узбекистан «О первоочередных мерах по созданию правовой и институциональной базы развития государственно-частного партнерства» от 20.10.2018 г., ситуация изменится кардинальным образом, по мере выполнения конкретных мер, предусмотренных данным документом.
В частности, согласно указанному постановлению, при Министерстве финансов Республики Узбекистан сформировано специализированное Агентство по развитию государственно-частного партнерства, основными задачами которого являются (п. 2 документа): «участие в разработке отраслевых программ развития государственно-частного партнерства в приоритетных направлениях экономики и социальной сфере; разработка методики оценки эффективности и сравнительного преимущества проектов государственно-частного партнерства, методическое сопровождение подготовки и реализации данных проектов; обеспечение межведомственной координации при реализации проектов в области государственно-частного партнерства, а также размещение информации о проектах в открытом доступе с ведением их реестра; содействие министерствам и ведомствам в реализации программ развития государственно-частного партнерства, в том числе разработке концепций конкретных проектов; организация взаимодействия с инвесторами, международными финансовыми и донорскими организациями, научным и экспертным сообществом, а также иными участниками рынка по вопросам развития государственночастного партнерства; оказание всестороннего содействия в защите прав и законных интересов участников проектов государственно-частного партнерства, рассмотрение их предложений по механизмам финансирования проектов, в том числе определению и распределению возможных рисков; мониторинг проектов государственно-частного партнерства, в том числе в сфере использования средств бюджетов бюджетной системы, привлеченных к их реализации, а также практики подготовки и реализации проектов с учетом международного опыта в соответствующих отраслях».
В частности, значимым результатом деятельности агентства стала подготовка (в сотрудничестве со специалистами Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России) законопроекта о ГЧП в Узбекистане. Закон Республики Узбекистан «О государственно-частном партнерстве» был подписан Президентом Республики Узбекистан 10 мая 2019 года и вступил в силу по истечении одного месяца с момента публикации. Безусловно, при подготовке данного акта использовался не только опыт Российской Федерации, но и других стран, а также были учтены особенности национальной экономики Узбекистана и сложившиеся институты ее регулирования. Тем не менее, в ряде моментов, регулирование ГЧП в двух странах имеет существенное сходство. В частности, это можно показать на примере трактовки самого понятия ГЧП в российском и узбекском законодательстве;
-
• согласно Закону Республики Узбекистан «О государственно-частном партнерстве» (ст. 3, абз. 2), «государственно-частное партнерство – юридически оформленное на определенный срок сотрудничество государственного партнера и частного партнера, основанное на объединении их ресурсов для реализации проекта государственно-частного партнерства»;
-
• аналогичный фрагмент (что примечательно – также ст. 3, абз. 2) российского Федерального закона от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» гласит, что «государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство – юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничества публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества».
Рассмотрим, в чем состоят основные отличия приведенных трактовок. Во-первых, специфика устройства системы публичной власти в России расширяет рассматриваемую категорию за счет включения в состав публичных партнеров и муниципального уровня управления. Во-вторых, российская трактовка в большей степени учитывает интересы бизнеса, т.е. частного партнера, т.к. содержит положение относительно такого мотива к созданию партнерства, как распределение рисков, что, безусловно, гораздо важнее для бизнеса. В-третьих, в российский закон зачем-то включена (в виде «закрытой», т.е. не предполагающей расширенной трактовки) целевая установка ГЧП: «…привлечение в экономику частных инвестиций, обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества». Последнее нам представляется излишним в данном определении.
Также немаловажным отличием создаваемой узбекской национальной системы институционального регулирования отношений в сфере ГЧП нам представляется наличие специализированного уполномоченного органа – Агентства по развитию ГЧП, которое является «специальным уполномоченным органом, ответственным за реализацию единой государственной политики в области государственночастного партнерства в Республике Узбекистан», который «возглавляет директор – заместитель министра финансов Республики Узбекистан». Последнее обстоятельство подчеркивает приоритетность развития ГЧП в Узбекистане. В России же, в рассмотренном федеральном законе (ст. 16), имеется лишь отсылка к «федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности». Это, с одной стороны повышает гибкость регулирования отношений в сфере ГЧП, но, с другой стороны, делает это регулирование более противоречивым, нежели в Узбекистане (заметим, что узбекская система регулирования ГЧП пока еще находится в стадии становления, поэтому оценить ее эффективность на сегодняшний момент затруднительно).
В то же время, с позиций не юридического, но экономического анализа феномена ГЧП, связанные с ним отношения следует расширить за счет концессий. Так, в Законе Республики Узбекистан от 30 августа 1995 года «О концессиях», сама эта категория трактуется следующим образом: «Концессия представляет собой разрешение, выдаваемое от имени государства иностранному инвестору на осуществление определённого вида хозяйственной деятельности, связанной с предоставлением ему имущества, участков земли и недр на основе заключения концессионного договора». То есть, здесь мы также видим признаки партнерства государства и бизнеса, в рамках концессии государство передает некоторое имущество бизнесу для ведения хозяйственной деятельности в обмен на получение общественно значимых социальных и экономических эффектов.
Представляется, что в связи с принятием нового закона о ГЧП, Закон Республики Узбекистан «О концессиях» требует доработки. Основных причин несколько. Во-первых, круг концессионеров ограничен только иностранными инвестициями, что исключает национальный бизнес из участия в потенциальных совместных проектах. Во-вторых, закон ограничивает продолжительность концессионного соглашения сроком в 15 лет, когда в мировой практике общепринятым сроком является до 50 лет, что сдерживает заключение соглашений по крупным объектам с продолжительным сроком окупаемости. Например, для строительства Евротоннеля под Ла-Маншем была заключена концессия на 55 лет для эксплуатации тоннеля. В-третьих, закон жестко связывает предмет концессии с материальными активами (имущество, земельные участки и недра), тогда как современный взгляд на концессию предполагает предоставление бизнесу со стороны государства и иных ресурсов для ведения хозяйственной деятельности.
Еще одной формой (с экономических, но не юридических позиций) ГЧП является Соглашение о разделе продукции (СРП). В частности, в качестве примера такого рода соглашения можно рассмотреть сотрудничество Узбекистана с российским ПАО «Нефтяная компания Лукойл», которое осуществляет свою деятельность в Узбекистане на условиях СРП начиная с 2004 года. На сегодняшний день объем инвестиций этой нефтяной компании в экономику Узбекистана превысил 6,5 млрд долл. США. Сотрудничество между Лукойлом и Узбекистаном в рамках СРП является плодотворным и взаимовыгодным, о чем может свидетельствовать тот факт, что в 2016 году проект «Гиссар» в рамках СРП смог привлечь пятилетний займ на 500 млн долл. США от консорциума банков. В рамках реализации этого проекта планируется довести добычу газа до 16 млрд кубометров, а объем инвестиций довести до 8 млрд долл. к 2020 году. С учетом такого развития проекта, в 2016 году было подписано Дополнительное соглашение к «Соглашению о разделе продукции (СРП) в отношении участка Кан-дымской группы месторождений, участков Хаузак и Шады, а также Кунградского участка» для создания еще более благоприятных условий реализации проекта для консорциума инвесторов – ПАО «Лукойл» и НХК «Узбекнефтегаз».
В настоящий момент СРП в Узбекистане заключены также с такими компаниями как Газпром (Россия), Kossor Operating Company (Вьетнам), CNPC (Китай), KNOC и KOGAS (Южная Корея) и др. По имеющимся оценкам, объем привлеченных инвестиций по СРП в 2000-2015 гг. составил 6.2 млрд долл. США, и прогнозируется освоение инвестиций до 2025 г. в размере более 13.2 млрд долл. США.
В отличие от этого, российский опыт внедрения СРП – более скромный. Так, например, по официальным данным Минэнерго России (см.: https://minenergo.gov.ru/node/1209 ), «по состоянию на 01.01.2019, добычу нефти и газового конденсата (нефтяного сырья) на территории Российской Федерации осуществляли 290 организаций, имеющих лицензии на право пользования недрами, в том числе: 100 организаций, входящих в структуру 11 вертикально-интегрированных компаний (ВИНК); 187 независимых добывающих компаний, не входящих в структуру ВИНК; 3 компании, работающие на условиях соглашений о разделе продукции... Основной объем национальной нефтедобычи (85,2% от общероссийского показателя) по-прежнему формируется крупнейшими вертикальноинтегрированными компаниями. Одновременно возрастает доля независимых нефтедобывающих компаний, общий вклад которых в суммарном производстве нефти по стране достиг по итогам 2018 г. 14,8%. Из них 3,4% приходится на операторов СРП».
Следует отметить имеющиеся различия между рассматриваемыми странами в отношении потенциальных объектов ГЧП. Так, в России перечни объектов, в отношении которых могут быть заключены соглашения, установлены ст. 4 закона о концессионных соглашениях и ст. 7 закона о ГЧП. На сегодняшний день эти перечни являются исчерпывающими и закрытыми [9]. Это – автодороги, мосты, защитные дорожные сооружения, элементы обустройства автодорог, объекты для взимания платы и объекты дорожного сервиса; объекты железнодорожного транспорта; объекты трубопроводного транспорта; морские, речные суда и суда смешанного (река – море) плавания; аэродромы, аэропорты; мелиоративные системы; объекты охотничьей инфраструктуры; объекты здравоохранения, в том числе, предназначенные для санаторно-курортного лечения; объекты образования, культуры, спорта, объекты для организации отдыха и туризма, иные объекты социального обслуживания; объекты по обработке, утилизации, размещению твердых коммунальных отходов и др.
В Узбекистане имеется более широкий спектр возможного взаимодействия государства и бизнеса, во-многом, определяемый не до конца сформированной институциональной базой регулирования в этой сфере. Так, следует отметить попытку реализации проекта ГЧП в сфере государственных услуг, в частности организации системы нотариальных контор. Согласно Стратегии действий по развитию Узбекистана, в 2017–2021 годах в республике планировалось возобновить деятельность негосударственных нотариусов с 1 января 2018 года. Данная инициатива призвана усовершенствовать нотариальную деятельность, в частности, оптимизировать виды сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению через введение электронной системы обращений и приема государственных пошлин.
Тема развития ГЧП в сфере государственных услуг также стала центральной в Концепции административной реформы Республики Узбекистан. Данная концепция предусматривает коренное реформирование в более чем 100 органах государственного управления, в том числе усовершенствования правовой и институциональной базы социального и государственно-частного партнерства. Например, одним из этапов административной реформы стала передача части Национального парка Узбекистана имени Алишера Навои частной фирме «AKFA». Комплекс передается компании в аренду на 49 лет с определенными обязательствами – обновлением, реконструкцией и модернизацией парка. Эффективность реализации данного проекта будет под контролем как государства, так и частного инвестора.
Подводя итог нашему краткому анализу, отметим, что во многих странах мира, в том числе в более детально рассмотренных в статье России и Узбекистане, вопросам развития ГЧП уделяется существенное внимание, что определяется высокой эффективностью этого института взаимодействия государства и бизнеса [10]. При этом, проведенный сравнительный анализ указывает на наличие тенденции к унификации национальных институтов регулирования отношений в сфере ГЧП, как в «чистом» виде, так и в смежных областях (концессии, соглашения о разделе продукции и др.). В то же время, имеются определённые отличия, обусловленные как спецификой самих национальных экономик, так и сложившихся национальных систем государственного регулирования их развития и функционирования. Это создает новые возможности для совершенствования механизмов партнерства органов публичной власти и частного бизнеса.
Список литературы Механизмы партнерства государства и бизнеса в интересах стимулирования социально-экономического развития (по материалам России и узбекистана)
- Акобиров С.О., Алтунина Л.Н., Миэринь Л.А. Государственно-частное партнерство и перспективы его использования в социальной сфере на современном этапе развития Российской Федерации//Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2019. № 2 (40). С. 13-18.
- Григорьев В.И., Плотников В.А. Государственно-частное партнерство в развитии физической культуры и спорта//Теория и практика физической культуры. 2014. № 8. С. 102-104.
- Князьнеделин Р.А., Курбанов А.Х., Крекотнев Р.Н. Применение модели государственно-частного партнерства как инструмента развития предприятий оборонно-промышленного комплекса и частных операторов//Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2019. № 2 (116). С. 47-53.
- Колосов А. С., Рисин И. Е. Государственно-частное партнерство: экономический, институциональный, управленческий аспекты. Воронеж: Антарес, 2012. 143 с.
- Макаров И.Н., Колесников В.В. Спецификация прав собственности как экономической основы эффективного развития национальной промышленности на основе государственно-частного партнерства//Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2018. № 1 (35). С. 35-39.
- Формы стратегического партнерства: модели взаимодействия в регионе/Вертакова Ю.В., Ватутина О.О., Андросова И.В. и др. Курск, 2013. 298 с.
- 2018 Private Participation in Infrastructure (PPI) Annual Report. World Bank, February 2019. 34 р.
- Market Update Review of the European PPP Market in 2018, European PPP Expertise Centre. 14 р.
- Практическое руководство для инвесторов «Государственно-частное партнерство в странах Евразийского экономического союза». М.: Центр развития ГЧП, 2017. 80 с.
- Пролубников А.В. Институциональные формы гармонизации интересов публичных и частных субъектов управления//Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2015. № 3 (25). С. 42-47.