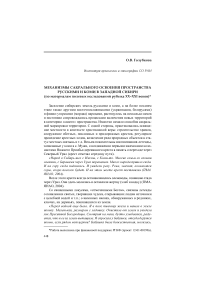Механизмы сакрального освоения пространства русскими и коми в Западной Сибири (по материалам полевых исследований рубежа XX-XXI веков)
Автор: Голубкова О.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XIX, 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14522018
IDR: 14522018
Текст статьи Механизмы сакрального освоения пространства русскими и коми в Западной Сибири (по материалам полевых исследований рубежа XX-XXI веков)
Заселение сибирских земель русскими и коми, а на более позднем этапе также другими восточнославянскими (украинцами, белорусами) и финно-угорскими (мордва) народами, растянулось на несколько веков и постоянно сопровождалось процессами включения новых территорий в категорию «своего» пространства. Известно немало способов сакральной маркировки территории. С одной стороны, практиковалось освящение местности в контексте христианской веры: строительство храмов, сооружение обетных, поклонных и придорожных крестов, регулярное проведение крестных ходов, возведение ряда природных объектов в статус местных святынь и т.д. Весьма показательны воспоминания-легенды, записанные у коми в с. Мужи, о воздвижении первыми ижемскими колонистами Нижнего Приобья деревянного креста в память о переходе через Северный Урал (крест отмечал середину пути).
«Народ в Сибирь шел с Ижмы, с Коми-то. Многие семьи со своими оленями, с баранами через Урал перевалили. Много народа пришло сюда. И на гору сюда поднялись. И увидели реку. Река, значит, кончаются горы, скоро поселок будет. И на этом месте крест поставили» (ПМА. ЯНАО, 2004).
Возле этого креста всегда останавливались оленеводы, гонявшие стада через Урал. Они здесь молились и оставляли жертву (хлеб и водку) (ПМА. ЯНАО, 2004).
Со священными локусами, «отмеченными Богом», связаны легенды о появлениях святых, творивших чудеса, открывавших людям источники с целебной водой и т.п.; о явленных иконах, обнаруженных в родниках, ключах, на деревьях, показавшихся из земли.
«Перед войной еще было. Я в поле пшеницу жала и нашла в земле иконку. Маленькая, размером с ладошку. Очистила от земли и увидела лик Пресвятой Богородицы. Смотрит на меня, будто улыбается, радуется, что я ее из земли вытащила. Я спросила у бабушки, откуда берутся иконы, если рядом нет церкви? Бабушка была божественная, молилась, много всего знала. Рассказала, что иконы могут сами собой вырастать из земли или из воды выходить. Если где икона появится, значит, это место благословенное самим Господом Богом. А тому, кто иконку найдет, счастье в жизни будет» (ПМА. НСО, Искитимский р-н, с. Нижний Коен, 2000, русские).
Иногда появление иконы расценивалось как предзнаменование большой беды.
«В 30-е годы мы жили в ссылке в Колпашево. Как-то утром один мальчик увидел на кедре икону Божьей Матери. Залез он на кедру, хотел достать икону, а она не далась – на соседнее дерево перескочила. Весь день там провисела, а утром на другое дерево, к соседям, перешла. Так эта икона, день за днем, обошла весь поселок, с кедры на кедру перескакивала, у каждого дома побывала. Это она, сердечная наша Заступница, прощалась с нами, людей предупреждала. В 38-м году страшный голод был, перемерли многие, у многих мужей и отцов репрессировали и расстреляли. Богородица приходила с народом попрощаться, чтобы Бога перед смертью не забывали» (ПМА. НСО, Искитимский р-н, с. Верх-Коен, 1999, русские).
В XX в. сакрализация водных источников нередко была связана с разрушением православных храмов или гибелью священников, а иногда – с местом расстрела людей, восставших против советской власти (как в с. Сорочий Лог Алтайского края), «в результате контаминации народной исторической памяти и нарративов о явлении божественных ликов в святой воде» [Любимова, 2006; 2012, с. 363].
«В Жуланихе в царское время была часовня, после революции ее разрушили, и на том месте образовался колодец. В том колодце плавал образ Богородицы. Многие видели, хотели вытащить, но не могли. Вроде поймают, а в руках одна вода остается. Тогда люди поняли, что в колодце вода святая, стали воду для лечения брать. Многие от разных болезней исцелились» (ПМА. Алтайский край, Заринский р-н, с. Зыряновка, 2009, коми).
«В Жуланихе есть святой ключ. Он потому святой, что раньше где-то там, в пещерах жили монахи. Их расстреляли большевики. На том месте появился ключ со святой водой» (ПМА, Алтайский край, Заринский р-н, с. Зыряновка, 2009, коми).
С другой стороны, при заселении сибирских земель русскими и коми допускалось включение в систему мировоззрения священных мест и локальных духов-покровителей, почитаемых у народов, ранее обосновавшихся на данной территории.
«Мы на хантыйской земле живем, поэтому их духи на нас влияют» (ПМА. ЯНАО, пос. Ямгорт, 2004, коми).
Подобные контаминации могли быть разными: от полного неприятия и противопоставления своего (христианского) мировосприятия чужому (языческому) до суеверных страхов перед «инородческими» духами – древними хозяевами сибирских земель, а в ряде случаев – почитания в виде бескровных жертвоприношений. Проезжая или проходя мимо места, связанного с тем или иным божеством, былинным героем, легендарным событием, оставляли хлеб, нитки, ленточки, монеты и т.п. Считалось, что такая «откупная» жертва может задобрить духов, охраняющих территорию, предотвратить несчастья, которые могут навлечь духи-хозяева за непочтительное отношение к ним.
«В лесу живет куль, его ханты почитают. Мы его боимся, в лес только до обеда ходим. На хантыйские места, где они своим богам молятся, мы не ходим. Кто заходил случайно, потом болели или какое-нибудь несчастье случалось. Оттуда нельзя ничего себе брать. А уж если зашел, то нужно от себя что-нибудь положить, хоть самое простое: хлебушка, монетку, тряпочку, хотя бы ниточку привязать. Вроде как подарок оставила» (ПМА. ЯНАО, пос. Овгорт, 2004, коми).
«На Сосьве есть остров, это – святое место у манси, там их духи живут. Когда мимо острова на катере проплываем, нужно бросить в воду денежку – заплатить за проезд. Всегда бросаем, чтобы дорога была легкой» (ПМА. ХМАО, пос. Сосьва, 2011, коми).
Еще одной формой сакрального освоения новой территории являлось обеспечение патроната предков, которое выражалось в обустройстве кладбищ, соблюдении традиционных норм похоронно-поминальной обрядности. Считалось, что умершие предки оберегают живых потомков и защищают их от негативного воздействия со стороны чужих покойников. Например, у обских коми существовал суеверный страх перед могилами хантов и манси, а у русских – перед «старыми татарскими кладбищами» и т.п. Считалось, что иные (не соответствующие привычным нормам, отличающиеся от своих ) способы погребения и похоронно-поминальной обрядности других народов не гарантируют безопасности живым, особенно «чужакам». Поэтому русские, украинцы, белорусы, коми и представители других этнических групп переселенцев в Западной Сибири использовали многочисленные средства апотропейной магии (включая христианские обереги) и рассчитывали на мистическое покровительство со стороны предков.
«У нас раньше школа-интернат стояла на нечистом месте. Когда-то там ханты хоронили своих беззубых младенцев. А они покоя после смерти не знают. Построили школу, а в ней неспокойно. По ночам кто-то ходит, то плачет, то смеется, дверями хлопает, двери сами отворялись. Днем ничего не слышно, а ночами начинается...» (ПМА. ЯНАО, пос. Овгорт, 2004, коми).
Похожая история была записана в Новосибирской области у русских и связана с захоронениями татар, живших на данной территории прежде.
«Старый московский тракт проходил мимом старинного заброшенного татарского кладбища. На месте бывших могил построили дом. Позже там находили человеческие кости, но тогда еще не знали о кладбище. В том доме постоянно что-то чудилось ночами, было невозможно спать. Женщина, которая жила в доме, каждую ночь видела, что ходят какие-то тени, все гремело, бренчала посуда. Однажды она увидела тень женщины в татарской одежде. Тогда догадались, что дом стоит на могиле этой женщины-татарки. Потом уехали, и никто в этом доме больше не жил» (ПМА. г. Болотное, 2013, русские).
На частном, семейном уровне сакральное освоение пространства выражалось в обустройстве дома. Первым делом в новый дом приглашали домового ( хозяина , суседко ), который считался душой дома, помощником домочадцам и их защитником от враждебных потусторонних сил. Образ домового-хозяина является эманацией предка – чура , поэтому в ряде случаев домовой (как и чур ) мог выполнять те же функции, что и ангел-хранитель в народно-христианской интерпретации. Параллельно с приглашением домового, обустройством его угла (обычно это место за печкой) и регулярными его «угощениями», совершались христианские обряды освящения дома: вносили иконы, оформляли Красный угол, опрыскивали дом святой водой, на окнах и дверях рисовали крестики и т.п.
Таким образом, освоение новых территорий можно сравнить с процессом сакрального обустройства домашнего пространства, включением его в сферу «своего», пригодного для безопасного проживания. В том и другом случае употреблялись аналогичные способы. Основными среди них были: освящение атрибутами и символикой христианской веры, надежда на защиту со стороны предков-хранителей и задабривание (откупными жертвами) вредоносных духов. Современные полевые материалы показывают, что традиционные механизмы сакрального освоения пространства восточнославянскими и финно-угорскими народами в Западной Сибири сохранились до наших дней и активно применяются на практике.