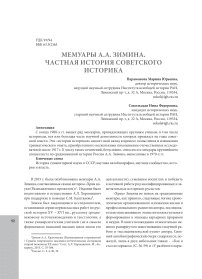Мемуары А.А. Зимина. Частная история советского историка
Автор: Парамонова Марина Юрьевна, Сокольская Нина Федоровна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Современные исследования культурных процессов
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
С конца 1980-х гг. вышел ряд мемуаров, принадлежащих крупным ученым, в том числе историкам, вся или большая часть научной деятельности которых пришлась на годы советской власти. Эти «истории историков» вносят свой вклад в процесс осмысления и изживания травматического опыта, приобретенного несколькими поколениями отечественных исследователей после 1917 г. К числу таких сочинений, безусловно, относятся и мемуары крупнейшего специалиста по средневековой истории России А.А. Зимина, написанные в 1970-х гг.
История гуманитарной науки в ссср, научная автобиография, научное сообщество, история и власть
Короткий адрес: https://sciup.org/170173878
IDR: 170173878 | УДК: 93/94
Текст научной статьи Мемуары А.А. Зимина. Частная история советского историка
В 2015 г. были опубликованы мемуары А.А. Зимина, озаглавленные самим автором «Храм науки (Размышления о прожитом)»¹. Издание было подготовлено и осуществлено А.Л. Хорошкевич при поддержке и помощи С.М. Каштанова².
Зимин был выдающимся исследователем, оставившим серию первоклассных работ по русской истории XV – XVI вв., русскому средневековому источниковедению и текстологии, а также университетским учителем (не в смысле формальных названий высших школ эпохи его
¹Зимин А.А. Храм науки (Размышления о прожитом) / Судьбы творческого наследия отечественных историков второй половины ХХ века / Сост. А.Л. Хорошкевич. М., Аквариус, 2015. С. 35-384.
²Там же. С. 3-4, 30, 34
деятельности), сумевшим воспитать и побудить к активной работе ряд квалифицированных и замечательных историков-русистов.
«Храм» Зимина не похож на традиционные мемуары, как правило, следующие логике хронологически организованного изложения жизни и профессионального развития автора, последовательно описывающего этапы интеллектуального формирования и эпизоды карьерных прорывов и неудач. В книге неожиданно относительно немного развернутого повествования о научной работе и «исследовательской кухне» автора. Связный автобиографический очерк содержится, пожалуй, лишь в двух небольших главах - «Как я стал историком» (С. 56-59) и «У разбитого коры- та» (С. 369-383), обе они отмечены личностной, почти исповедальной интонацией.
С точки зрения формальной структуры, «Храм» представляет собой серию очерков, взаимосвязь которых не подчинена ни принципам хронологической последовательности, ни сколько-нибудь ясной логико-тематической схеме: они объединены лишь потребностью ученого поведать о тех лицах, учреждениях или аспектах научной жизни, которые кажутся ему важным.
Мемуары Зимина, не будучи по своему жанру ни научной (авто)биографией, ни исследованием о судьбах науки в определенных и меняющихся (с 30-х – до конца 70-х гг. ХХ в.) социально-политических реалиях СССР, ни систематическим историографическим анализом, тем не менее, могут быть отнесены к по-своему целостному научному нарративу. Нам кажется, их можно определить как историко-антропологическое «плотное описание»³ среды обитания российского ученого в конкретных обстоятельствах и в конкретный период времени. Это описание имеет свою специфику – оно все составлено из портретов людей, рассказывая о которых Зимин выстраивает и свое понимание общих трендов пережитой им эпохи4 : преемственность и разрывы между дореволюционной и советской наукой, историографические дискуссии, воздействие власти на исторические исследование, смена типических моделей ученых, претендующих на лидерство в академической среде.
Сам Зимин, безусловно, видит целостность своих мемуаров и определяет ее через объект изучения, которому дает наименование «Храм науки». Этот термин у автора полисемантичен, а его употребление перемещается от иронии к «высокому стилю». Используя его, автор подразумевает разные явления: сообщество ученых (преимущественно специалистов в области русского средневековья, которых он лучше всего знал, но которыми явно не ограничивает свой коммуни-
³Термин классической этнологии, с легкой руки К. Гир-ца ставший общеупотребимым в современной социальной истории.
4Здесь он словно следует бесспорной для него «великой истине» (открытой, по мнению Зимина, С.Б. Веселовским) о том, что «история – это живые люди, а не процессы». Там же. С. 149.
кативный круг); совокупность научных институтов (хотя уже в первом разделе понятие «Храма» сводится к Институту истории); собственно занятие наукой, главной целью которой он видит поиск истины5.
Кажется, что термин «Храм науки» определяет не только собственно социальный фено-мен6, но и имеет очевидные метафизические коннотации – отсылает к почти мистической общности подвижников, посвятивших себя служению истине, объединяющей как мертвых, так и жи-вых7. Интеллектуальная оптика Зимина напоминает столь хорошо знакомый ему строй мысли средневековых книжников, которые видели в земной реальности лишь проекцию божественного прототипа, всегда несовершенного в соотношении с идеальным замыслом, но теряющего без него всякий смысл и собственную сущность. Рассказывая об институтах, а главное – о людях, автор все время сравнивает реальность с этой воображаемой онтологической моделью, отмечая следы близости отдельных представителей зем-
5«… я пытаюсь рассказать о своей встрече с наукой, ее жрецами», «… Преимущественно о людях, занимавшихся феодальным периодом отечественной истории» Мне хотелось бы, чтобы заглянув в мою книгу воспоминаний и размышлений, эти наши наследники поняли бы и условия, в которых нам приходилось сочинительствовать, и представили себе тех, кто был служителями в Храме науки»; «рассказ содержит попытку осмыслить прошедшие годы, главным образом познакомить читателя с теми людьми, с которыми мне пришлось встретится в этом храме»; «В храме науки верующие в торжество Чистого Разума сами заняты открытием вечных истин, они сами священнослужители, а не просто присутствующие при действе» С. 37, 38, 39 (прим.4), 39, 36
6«Храм науки отечественной истории». Там же. С.38
7«Образ Храма двоится не только в нашем воображении, но и наяву. Давно уже фарисеи стараются превратить служителей культа в кимвал звенящий. Шабаш ведьм, нацепивших на себя крылья ангелов. Храм воздвигается на Лысой горе. Калечатся тела и души. «Люди гибнут за металл». И вдруг ты видишь, как откуда-то с мольбою в бесконечно печальных взорах к тебе обращены лики поруганных братьев и сестер». Там же. С. 38.
8См., например, едкие и горькие высказывания об Л.В. Черепнине – «судьба этого человека заставляет поверить даже не в мистическое предначертание, а скорее в ответственность человека за содеянное», предал то, « что ученый не имеет право отдавать на съедение Молоху. А отсюда и путь в бездну …» (С. 168); «Убив в себе царевича Дмитрия (божественную искру стремления к правде и человечности), Лев потерпел полный творческий крах», «Возмездием Льву были и потеря творческого гения (Синяя птица улетела), и полное одиночество», «Ну, прямо как Понтий Пилат сидит он в своем академическом кресле в лунном луче догорающей жизни» (С. 185).
ного сообщества к исходному замыслу или признаки предательства ими своего служения Исти-не8. Для него это равноценно предательству собственного предназначения, убийству своей души (темы рефреном звучащие в его негативных характеристиках) и даже прямому богоборчеству (так, например, характерны его наименования негативных персонажей «бесами», «ведьмой», а наиболее колоритного и активного из них «Сатаной»). Характерно, что таких очевидно религиозных оценок он не дает извне действующим на науку представителям и институтам власти, партийной или государственной. Отчетливо понимая их враждебность и вредоносность, автор, тем не менее, основную моральную ответственность переносит на тех, кто непосредственно входит в сообщество «служителей Храма».
Весьма примечателен и подход Зимина к оценке взаимодействия между научным сообществом и государством: кажется, в нем также слышны отзвуки средневекового восприятия взаимоотношений церкви и светской власти. Автор рисует ясную и недвусмысленную картину действий советской власти в отношении исторического знания: разрушение старых институтов и создание новых в соответствие с представлениями властей об организации науки, внедрение новых теоретических концепций, стремление подчинить деятельность и творчество ученых собственным идеологическим схемам, использование истории как служанки государственной политики, прямое вторжение в решение кадровых и научно-организационных проблем. На примере историков 1930-х – 1970-х гг. Зимин показывает, что ученые были вынуждены приспосабливаться к меняющимся условиям жизни и работы, внимательно следить за очередными, зачастую взаимно противоречивыми и, возможно, нарочито неопределенными партийными решениями о теоретических и содержательных аспектах исследований9.
Представляется, что в фокусе внимания Зимина находится не проблема влияния государ-
9См. основанную на публикации архивных документов работу об особенностях советской историографии в 1930 – 50-е гг.: Юрганов А.Л. Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма. М., 2011.
ственной политики на развитие исторической науки в целом, но ее воздействие на конкретных людей, включая выбор ими нравственной позиции и профессиональной стратегии. Вторжение власти в развитие науки представляется злом, но, если можно так сказать, злом неизбежным и внешним. Настоящая опасность коренится в самом сообществе ученых, в готовности его членов предавать ради внешних целей, из страха или честолюбия идеалы профессии и своих товари-щей10. Зимин не является ригористом и сторонником радикального нонконформизма: он принимает как неизбежное условие сосуществования историков и власти, использование соответствующей риторики и идеологических схем (цитаты из классиков, схемы исторического процесса и исследовательские приоритеты, спускаемые из органов, надзирающих за идеологией). В его мемуарах можно обнаружить и вполне сочувственные характеристики некоторых политико-идеологических трендов: возврат «стариков» для возрождения исторических исследований и образования в середине 1930-х, актуализация патриотической проблематики в годы войны, акцентирование важности классовой борьбы. Вместе с тем, он остается скептиком относительно любой избыточной теоретико-методологической рефлексии, включая усилия по пересмотру тех или иных догматических схем и создание новых теоретических конструкций, способных описывать сущность исторического развития России. Эти дебаты, схемы и модели кажутся ему схоластическим спором, имеющим мало отношения к реальному историческому исследованию. Скептическая снисходительность к «теоретикам» сочетается у автора с резкой нетерпимостью к тем коллегам, которые сознательно и цинично отрекаются от основного призвания ученого – поиска истины, создавая и внедряя в сознание научного сообщества концепции, открыто обслуживающие государственные интересы. «Умствование», «романтизм» и «фальсификация» - предстают как разные типы исторической спекуляции, хотя автор и не дает их точного определения.
Для Зимина выбор между свободой мысли и обслуживанием власти не укладывается в простую дуалистическую модель бескомпромиссных правдолюбцев (овнов) и прислужников режима (козлищ): как реалист он пытается нащупать границы компромисса, приспособления, сотрудничества с властями предержащими. С сарказмом и симпатией одновременно автор повествует об убежденном историке-марксисте, который и в 1930-е и 1960-е старался следовать духу времени, убежденно продвигая в области исторических исследований последние постановления партии-и-правительства, заряжая своим энтузиазмом учеников и, одновременно, замолкая в ситуации, когда не мог точно понять, куда клонится вектор идеологической борьбы11. С сочувствием и горькой иронией он пишет об ученых дореволюционной генерации, которые должны были «учиться марксизму», вставлять цитаты, привыкать молчать и учеников «учить помалкивать». С очевидным неодобрением он пишет о «ревизионистах» 1960-70-х гг., стремившихся пересмотреть основные схемы марксистской социологии истории. Однако самое резкое презрение и гнев вызывают у него ученые, писавшие установочные опусы в свете текущих «решений и постановлений» или прямо фальсифицировавшие образ прошлого12 в угоду политико-идеологическим задачам. Это позволяло им, предавая совесть ученого, делать карьеру и самим становиться главными цензорами и чиновниками в рамках научного сообщества.
Итак, трезвый взгляд Зимина на негативную и, порой, страшную роль власти не делает государство главным актором в представленной им картине развития советской исторической науки. Ее достижения и провалы – результат деятельности отдельных ученых или их коллективных инициатив. Тема коммуникации и взаимного влияния ученых разных поколений занимает, кажется, центральное место в рассуждениях Зимина о развитии исторического знания. Рассказывая о научной среде в отдельных научных организациях (Институт истории, университет и историко-архивный институт, ленинградские академические учреждения, архивы) он неизменно начинает с характеристики ученых старшего поколения, описывает круг их учеников (в формальном и неформальном смысле слова), характеризует пути передачи научного опыта, исследовательских подходов и проблематики. Подробно описывает он и методы преподавания в гуманитарных вузах и коммуникативную модель ученичества, образование «школ» в процессе профессионального образования.
Ученые старшего поколения выступают не только как учителя молодых советских историков, но и хранители старой академической научной традиции, не случайно Зимин педантично указывает, чьими учениками и учителями были ученые разных поколений или к какой научной традиции они принадлежали13. Следует сказать, что автор не дает сколько-нибудь развернутой характеристики развития историографии русского средневековья, а потому его дефиниции «московской» и «питерской» школ, «лаптеведения»
и «охотнорядской» истории, научного источниковедения и фактоведения имеют назывной, а не аналитический характер14. Зимин, фиксируя разрывы традиции15, тем не менее, отмечает непрерывность в развитии русской медиевистики и верит в важности процесса передачи исследовательского опыта «из рук в руки», от поколения к поколению16, от учителей – ученикам17. Сохранение этой преемственности для развития науки, очевидно, важнее любых политических потрясений.
Заслуживает внимания тот факт, что в мемуарах, написанных во второй половине 1970х гг., главными авторитетными фигурами как с точки зрения методологии исследования, так и концептуальных обобщений выступают ученые «прошлого века», научные «дедушки», фактически мифологические предшественники для автора – А.А. Шахматов и В.О. Ключевский18. Следует подчеркнуть, что они предстают не просто как классики и основоположники научного изучения древнерусской историки, но именно как актуальные исследователи19.
Идеал ученого, который можно реконструировать на основании многочисленных индивидуальных портретов, созданных Зиминым, имеет отчетливо консервативный характер, хотя многое в нем отсылает к фундаментальным чертам исследователя-историка как типического персонажа нового времени. Фигурой, в которой максимально сконцентрированы эти черты, предстает С.Б. Веселовский, который занимает центральное место в галерее положительных героев20. Прежде всего, это ученый беззаветно преданный изучению прошлого и населявших его людей, бескорыстно занимающийся своим ремеслом и предпочитающий радость познания любым прагматическим и меркантильным соображениям. Другой важнейшей чертой настоящего историка предстает сосредоточенность на поиске и обнародовании новых источников, работа в архивах, тщательное установление достоверности фактов и максимально объективное использование их при нарративной реконструкции прошлого в своих исследованиях. Всякое теоретизирование, обобщение, подчинение исторического материала абстрактным концепциям (романтизм, фантазирование) кажется Зимину потенциально опасным, диктуемым не столько стремлением узнать правду о прошлом, сколько желанием использовать прошлое для обоснования собственных идеологических убеждений21, достижения материального и карьерного благо-получия22 или как орудие борьбы с противника-ми23. Осторожное отношение автора к теоретизированию и увлечению объяснительными моделями отражает, в первую очередь, опыт советского историка, пережившего разнообразные по содержанию и направленности «кампании» принудительного внедрения в историю тех или иных социологических схем и оценок. Итогом подобной управляемой властью «концептуализации» истории было двоякое насилие – интеллектуальное и социальное: с одной стороны, над фактами и правом их интерпретации, с другой – над несогласными с «партией и правительством» учеными. Это придавало естественной конкурентной борьбе за авторитет внутри сообщества уродливые, гротескные и, нередко, ужасающие черты24. Вместе с тем, здесь присутствует и фундаментальный консервативный взгляд на историю как эмпирическую науку, где важность доказательства достоверности факта или письменного источника имеет абсолютную важность в сопоставлении с «умствованием» – толкованием и интерпретацией, способным связать разрозненные и отдельные факты в целостную картину исторического процесса25. Ученый, сосредоточенный на фундаментальной работе, свойственной его ремеслу – нахождении новых текстов и свидетельств, подтверждении их достоверности - с недоверием относится к концепции гуманитарного знания, как сфере борьбы «дискурсов» и интерпретаций. Для него это попахивает шарлатанством и «борьбой за академический авторитет»26.
Истинный ученый, в восприятии Зимина, не зависит в своем творчестве от политического заказа или научной моды27. Он исследует свой материал, руководствуясь собственной интуицией и совестью в поисках истины и восстановлении исторической правды28. Используемая Зиминым оппозиция истинного ученого и «научного сотрудника» (историка, предавшего свое призвание ради прагматических целей или просто манипулятора) выходит за пределы простой парадигмы противостояния интеллектуала и власти или свободного ученого и слуги режима, традиционно описывающей советские реалии29. Зимин с тем же саркастическим презрением, как и генералов советской науки, характеризует и западных светил русистики, задававших тренды в зарубежных исследованиях30, и отечественных теоретиков31, отчаянно боровшихся против господствовавших в советской науке схем и объединявших сплоченные группы последователей.
Настоящий ученый должен быть скептиком, сомневающимся в истинности любого общепринятого суждения, однако опровержение устоявшихся в науке суждений не может быть самоцелью, интеллектуальным трюкачеством, преследующим прагматические цели32. Только честное и подкрепленное большой исследовательской работой «открытие» имеет научный смысл: личная мораль33, трудолюбие и профессионализм выступают в своем неразрывном единстве и отсутствие даже одного из этих качеств обрекает исследователя на неудачу. Зимин отмечает успехи ученых, своих коллег, способных на оригинальное и смелое суждение, однако, сам редуцирует понятие научного «открытия» и «новизны» к чистому источниковедению: работа в архивах и открытие новых документов, тщательный текстологический анализ и новая датировка, скрупулезное сличение списков одного произведения и новая филиация редакций или реконструкция утраченного архетипа34.
Методология источниковедения стала единственной сферой теоретической рефлексии Зимина, если отбросить серию дежурных статей и размышлений о периодизации и классовой борь- бе, подтверждавших лояльность ученого марксистской теории истории35. Аутентичный факт и источник создают единственное прочное основание для обобщения, могут быть аргументом в споре с любой авторитетной концепцией, индукция вместо дедукции в историческом расследовании (Агата Кристи вместо Артура Конан Дойла36) - эти принципы работы были близки Зимину.
Зимин целенаправленно писал свои мемуары и желал их обнародования, о чем прямо говорится во вводном и заключительном разделах текста37. В течение последних лет своей жизни, уже будучи серьезно больным человеком, он постоянно работал над ними. Ученый стремился зафиксировать и представить «городу и миру» свое личное понимание и оценку развития исторического знания и научного сообщества. Он не хотел, чтобы его опыт участника, свидетеля и творца научной жизни остался сугубо внутренним и индивидуальным знанием, полагая, что это будет полезно позднейшим исследователям отечественной историографии и социальнокультурного развития страны в ХХ в.38 Его слова: «Назначение человека – как можно всестороннее раскрыть заложенные в нем потенции. Поэтому я пытался дать субъективное, т.е. личностное пред ставление о Храме науки и его служителях.
Чем больше будет таких рассказов, окрашенных индивидуальным восприятием мира, тем многограннее и в конечном счете достовернее будет
наше представление о нем», могли бы быть эпиграфом к его мемуарам – подчеркнуто личностной и субъективной истории историка39.
39Там же. С. 39. См. также: «Заранее предупреждаю читателя, что мой рассказ субъективен. Пристрастен, и даже очень»; «Пусть не ищет здесь читатель «объективного» рассказа в духе летописца Пимена». С. 37, 39.
A MEMOIR OF A.A. ZIMIN.PERSONAL HISTORY OF THE SOVIET HISTORIAN.
Paramonova Marina,
Russian academy of sciences