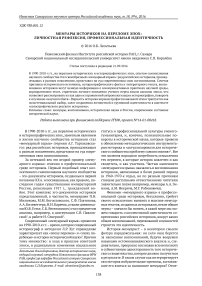Мемуары историков на переломе эпох: личностная рефлексия, профессиональная идентичность
Автор: Леонтьева Ольга Борисовна
Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc
Рубрика: Методология, историография, источниковедение
Статья в выпуске: 6 т.18, 2016 года.
Бесплатный доступ
В 1990-2010-х гг., на переломе исторических и историографических эпох, опытом самопознания научного сообщества стал своеобразный «мемуарный взрыв»: ряд российских историков, принадлежащих к разным поколениям, представил на суд современников свои воспоминания. Сочетая признаки исторического источника, историографического факта и литературного текста, воспоминания историков несут ценную информацию о коммуникативных практиках научной среды, корпоративном этосе, стратегиях личного поведения ученого перед лицом вызовов эпохи, что позволяет рассматривать их как одно из проявлений антропологизации историографии, поворота к изучению «научного быта». Верность историка нормам профессиональной этики трактуется как экзистенциальный выбор, залог сохранения личностной и групповой идентичности в контексте «катастрофического русского историзма».
Мемуары, воспоминания, историческая наука в России, современное состояние исторической науки
Короткий адрес: https://sciup.org/148204964
IDR: 148204964 | УДК: 930:001.12
Текст научной статьи Мемуары историков на переломе эпох: личностная рефлексия, профессиональная идентичность
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект №14-01-00418.
В 1990-2010-х гг., на переломе исторических и историографических эпох, заметным явлением в жизни научного сообщества историков стал «мемуарный взрыв» (термин А.Г. Тартаковско-го): ряд российских историков, принадлежащих к разным поколениям, представил на суд современников свои воспоминания.
За истекший век это второй пример «мемуарного взрыва» именно в профессиональной среде историков. Первый подобный опыт коллективного самопознания научного сообщества – эго-документы историков, созданные в первой половине ХХ в. и посвященные, как правило, последним годам существования императорской России, революции 1917 г., гражданской войне. Этот комплекс эго-документов историков (представленный, в частности, мемуарами П.Н. Милюкова, М.М. Богословского, С.Ф. Платонова, А.А. Кизеветтера, Н.И. Кареева, а также дневниками Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского) стал предметом анализа, например, в диссертации С.В. Павлов-ской1, в работе Н. Северной2.
статуса и профессиональной культуры ученого-гуманитария, и, конечно, познавательные повороты в исторической науке, которые привели к обновлению методологического инструментария историка и «актуализировали для исторического сообщества проблему самопознания»4. Все эти явления породили потребность осмысления тех перемен, в которые историк вовлечен и как свидетель, и как участник. Частью нынешнего «мемуарного взрыва» оказались и воспоминания историков, написанные в более ранний период (в 1960-1970-е годы), но по разным причинам ставшие доступными отечественному читателю значительно позже (например, мемуары А.А. Зимина, А.М. Некрича, М.Г. Рабиновича).
Феномен «мемуарного взрыва» в профессиональной среде историков, безусловно, требует своего осмысления: выявить в массиве мемуарных текстов, созданных историками, некие общие черты – значило бы понять, в какой мере мы можем говорить о коллективной идентичности современных российских историков, вокруг каких общих воспоминаний, переживаний и ценностей строится эта идентичность.
Историк-мемуарист – в некотором смысле фигура парадоксальная: он (или она) берется за написание воспоминаний, будучи вооружен навыками источниковедческого анализа и, следовательно, прекрасно осознавая всю неполноту и субъективную односторонность того исторического свидетельства, которое должно получиться в результате. В таком случае как интерпретирует сам историк побудительные причины, заставившие его взяться за написание мемуаров? Отме- чены ли мемуары историков особой критической рефлексией в отношении метода познания прошлого? Наконец, оставили ли свой отпечаток в мемуарных текстах «познавательные повороты» в исторической науке второй половины ХХ века?
Специфика мемуаров, написанных историком, выступает более рельефно, если применить к их анализу современные методики работы с текстами «от первого лица» из исследовательского арсенала филологии и психологии: например, изучение «ролевых моделей», «фигур авторской идентификации» повествователя5. Так, в работах психолога В.В. Нурковой выделено несколько возможных позиций, которые может занимать мемуарист относительно исторического события: позиции Участника события, Очевидца, Современника и, наконец, Наследника6. С.В. Павловская, исследуя воспоминания историков 1920-1930-х гг., пришла к выводу, что историк – автор мемуарного текста – может выступать в нем, «во-первых, как современник, участник, гражданин (собственно, как и многие другие мемуаристы); во-вторых, как исследователь-профессионал , дающий особый тип свидетельства, пронизанного научным анализом информации»7. Как отмечает она, в мемуарах историков, «наряду с общепринятыми признаками мемуарного комплекса», присутствует « научно-исследовательское отражение действительности» - то есть более высокий, аналитический уровень осмысления современных мемуаристу исторических событий, чем в других подобных источниках8, и именно это позволяет выделить воспоминания историков в «особый мемуарный комплекс». Логично задаться вопросом: остается ли справедливым это суждение в отношении мемуаров историков, написанных в конце ХХ века?
Рефлексия, порожденная навыками работы с историческими источниками, безусловно, пронизывает практически весь комплекс мемуаров, созданных историками. Примечательны такие признания историка-мемуариста А.Я. Гуревича: «Разумеется, мои воспоминания субъективны: фактическая канва событий, история, с одной стороны, и память – с другой, вступают в известное противоречие. В конечном счете все, что я могу изложить, – это симбиоз фактической истории и памяти, в котором я стараюсь придерживаться правды, и до сих пор, кажется, мне это удавалось, во всяком случае, настолько, насколько позволяет искренность»9. Более скептично, с долей самоиронии оценивает степень исторической достоверности своих мемуаров Р.Ш. Ганелин: «Разумеется, я старался быть точным. В некоторых случаях мне удалось проверить свою память. Но это относится далеко не ко всему мною написанному, и мне остается сослаться на то, что ведь и апокриф характеризует время и обстоятельства своего возникновения»10. Как отмечает И.В. Нарский, в последние годы все более распространяется представление, что сам историк – «пленник памяти, мифов, ценностей, предпочтений и интерпретационных стереотипов своего коллектива – профессионального, этнического, гендерного и пр.»; однако признание субъективности историописания означает не капитуляцию науки, «а повышение планки требований к ученым-историкам по поводу само-рефлексии и выработке более контролируемых процедур научного исследования»11. (Заметим в скобках, что образцом такой саморефлексии является «автобио-историо-графический» труд самого И.В. Нарского.)
В то же время мемуары обладают сущностными признаками литературного текста. Являясь по сути своей автобиографическим рассказом о жизни мемуариста, они могут быть подчинены при этом той или иной «сверхзадаче» – стержневой идее, ради которой они создаются, которую они призваны передать читателю. (На это обратила внимание Н.Северная, анализируя эго-документы Н.И. Кареева, Ю.В. Готье и С.Б. Веселовского.) Иногда такая сверхзадача обозначена уже в заглавии воспоминаний. Так, воспоминания А.Я. Гуревича озаглавлены «История историка»; их смысловым стержнем является история становления ученого-профессионала12. Воспоминания А.А. Зимина носят название «Храм науки»; смысл этого названия и скрытая в нем ирония (несоответствие высокой социальной миссии историка и реальных нравов советского ученого сообщества) становятся понятны по ходу прочтения текста мемуаров13. Воспоминаниям Р.Ш. Ганелина дано название «Советские историки: о чем они говорили между собой»; в нем уже отражена стержневая идея книги – без знания специфического мира личного общения и «особого, кулуарного, устного слова» невозможно адекватно понять историографические процессы советской эпо-хи14. Мемуары казанского историка А.Л. Литвина озаглавлены «Жизнь как выживание», отражая горечь жизненного опыта15 (первая глава воспоминаний самарского историка П.С. Кабытова – о послевоенном детстве – в свою очередь названа «Детство на выживание»16). Автобиографическая книга В.Б. Кобрина получила название «Кому ты опасен, историк?» (один из ее разделов, кроме того, озаглавлен «Опасная профессия»)17, а воспоминания А.М. Некрича – история становления ученого-диссидента – названы «Отрешись от страха»18. Внутренняя перекличка этих названий достаточно очевидна.
Выбор «точки отсчета» мемуаров – события, которое выступает в качестве отправного пункта повествования – также многое может поведать об их «сверхзадаче». В большинстве случаев мемуаристы начинают свой рассказ ab ovo: я родился в таком-то году в такой-то семье… Однако, например, воспоминания А.Я. Гуревича начинаются с того, как в 1944 году он перевелся с заочного отделения МГУ на очное; воспоминания А.М. Некрича – с момента его поступления в аспирантуру Института истории АН СССР после демобилизации в 1945 году. В том и другом случае читателю понятно, что смысловым стержнем повествования будет история профессионального становления. Р.Ш. Ганелин в качестве точки отсчета своих мемуаров выбрал 1949 год, объясняя это так: именно тогда «я ощутил, что процесс моего созревания завершен», – то есть выработал скептическое отношение к официальному слову19. Воспоминания А.Л. Литвина начинаются с той мартовской ночи 1941 года, когда был арестован его отец; с этого момента началась взрослая жизнь 10-летнего мальчика, и это событие впервые заставило его ощутить себя «чужим» среди окружающих («Чужой» – так названа первая глава мемуаров). Мемуары Е.В. Гутновой также начинаются с очерка о ее отце, меньшевике В.О. Цедербауме-Левицком, чья трагическая судьба (непрерывные аресты и ссылки с 1920 г. и до самой гибели в 1938 г.) наложила отпечаток на всю жизнь дочери и рано приучила ее к «атмосфере постоянной раздвоенности»: искренняя вера мемуаристки в дело социализма сочеталась с «чувством неполноценности» и «страхом разоблачений», любовь к отцу и восхищение им – с попытками обосновать историческую неправоту меньшевизма20. Как символическая точка отсчета (не столь ярко выраженная в структуре текста) может фигурировать перечень книг по истории, беллетристических и научно-популярных, прочитанных мемуаристом в детстве и предопределивших его профессиональный выбор21.
Можно ли выделить сквозную, глобальную «сверхзадачу» мемуаров, пронизывающую все подобные тексты и включающую их в единое смысловое поле? Если доверять таким ведущим специалистам в сфере изучения мемуаристики, как А.Г. Тартаковский и И.А. Паперно, стержневой идеей русской мемуаристики является идея столкновения человека и истории – пересечения частной судьбы и «большой дороги» исторического процесса. Как доказывал А.Г. Тартаковский, подлинное рождение русской мемуаристики состоялось в 1830-е годы, после того бурного времени, когда «средний рядовой человек на собственном опыте впервые почувствовал вторжение Истории в повседневность»; из этого выросло «желание соображать все частное с общим жребием человечества», «“историософский” угол зрения» при воссоздании личной биографии22.
Согласно И.А. Паперно, ключевой метафорой мемуаристики является образ «человека, случайно попавшегося на дороге истории». Но если в мемуарах XIX в. этот образ был связан с возвышающим душу переживанием сопричастности великим событиям (эмблематическая «встреча Гегеля, на улице, с Наполеоном на белом коне»), то в мемуарах ХХ века эта метафора переросла в образ
«дорожной катастрофы»: история представала в пугающем образе «колесницы Джаггернаута», «броситься под колеса которого было делом осознанного выбора, или взбесившегося автомобиля, под колеса которого человек попадал случайно»23. Иррациональная непостижимость и безжалостность исторического процесса стали восприниматься как его ключевые характеристики.
И в воспоминаниях историков, как правило, отчетливо выделяются события, которые самими мемуаристами воспринимаются как пережитые ими исторические катастрофы. В зависимости от времени рождения историка, от судьбы его самого и его семьи это может быть Великая Отечественная война и/или массовые репрессии. В мемуарах историков 1920-х - начала 1930-х годов рождения в качестве иррациональнокатастрофического события предстает «борьба с космополитизмом» рубежа 1940-1950-х, заставшая их студентами или аспирантами24 (характерен сам язык, который для описания этой кампании использует А.Я. Гуревич: «макабер-ность происходящего», «оргии», «вакханалия», «скрытая угроза», «страх», «иррациональность»)25. Для историков того же или следующего поколения в качестве катастрофического события мог выступать 1968 год, год «чехословацкой драмы»26. В воспоминаниях Н.А. Троицкого в качестве катастрофического события, навсегда расколовшего привычную жизнь, выступает распад СССР (глава, повествующая об этих событиях, названа «Другая страна», и эта другая страна описана как абсурдное зазеркалье по отношению к утраченным советским реалиям)27.
Отличительный признак катастрофического события – не только его трагизм и масштабность, но внезапность и иррациональность, невозможность объяснить происходящее с помощью привычной логики. В воспоминаниях Е.В. Гутновой особенно рельефно выступает драматическое противоречие между убеждением в существовании объективных закономерностей истории – и личностным, человеческим ощущением иррациональной катастрофичности происходящего. С одной стороны, она вспоминает, что еще в детстве и ранней юности прочитанные книги по истории «рождали в душе еще неосознанное ощущение закономерностей хода исторических событий, их непреодолимости волей отдельных, даже самых крупных личностей», и это «позволяло мне сохранить объективный взгляд и на события происходившей вокруг меня великой революции, оценивать их с какой-то более высокой позиции, чем личные горести и невзгоды»28. Признаваясь в своей искренней приверженности марксистскому пониманию истории, Е.В. Гутнова считает его «наиболее удачной “рабочей гипотезой” для серьезного историка, которая дает возможность… соединить познание индивидуального и конкретного с выявлением исторических обобщений и закономерностей исторического развития»29; характеризуя свою научную работу, она пишет о стремлении понять жизнь далекой Англии XIII-XIV веков, «понять действия и помыслы людей той поры, обнаружить законы, управлявшие ими» и «объективный смысл происходивших между ними конфликтов»30. С другой стороны, репрессии 1930-х гг., затронувшие многих близких людей мемуариста, предстают в тексте воспоминаний как стихийное бедствие – «буря», «катастрофа», «адский бедлам», когда «кругом разверзалась земля»; атмосфера того времени охарактеризована через «ощущение зыбкости, фантасмагоричности всего происходящего, непомерной жестокости к людям»; глава о событиях 1937-1938 гг. названа «Обвал»31. «В эти месяцы, – пишет Е.В. Гутнова, вспоминая 1938 год, – меня постоянно преследовал все время один образ: будто я и мои близкие – какие-то растения вроде кустов, прилепившиеся корнями к высокому песчаному обрыву. Ураганный ветер треплет эти растения, пригибает их к скале, стремится вырвать из почвы, а они, трепеща на ветру, прижимаются к ней, цепляются за нее корнями, но вот-вот не выдержат и полетят в бездну»32. Горькие вопросы, которые историк задает себе в финале книги – «нужен ли был этот семидесятилетний зигзаг – жестокая революция, братоубийственная гражданская война, насильственная коллективизация, неподготовленность к войне и столь жестокие неоправданные ее жертвы?»33 – в данном случае уже не сопровождаются ссылками на исторические закономерности и объективный смысл происходившего.
Историческая катастрофа бросает вызов историку и как человеку, которому не посчастливилось «жить в эпоху великих перемен», и как специалисту, который по долгу своей профессии стремится к пониманию и концептуальному объяснению происходящего.
В стремлении «понять» – в требовании «понять», которое историк адресует самому себе, – исследовательская и жизненная позиции сливаются воедино. Яркий пример тому – воспоминания А.М. Некрича: «Во время войны мне пришлось многое увидеть и еще больше понять... Скажу здесь поэтому только одно: книга о начале войны в июне 1941 г. была мною задумана в те дни, когда я в теплушке возвращался из Восточной Пруссии в Москву. Но осуществить свое намерение мне удалось лишь значительно позже. Должно было пройти почти двадцать лет занятий историей, чтобы я созрел для такой книги»34.
Но возможна ситуация, когда и отказ историка «понять», «разумно объяснить» происходящее – и тем самым «нормализовать» его, смириться с трагедией, – становится осознанной личностной позицией. «Что касается репрессированных в те годы и их дальнейшей судьбы, то я никогда не мог ответить на вопрос, который мучает меня до сих пор: за что, во имя чего погибли миллионы людей, почему их родные стали изгоями в своей стране, у себя на родине?.. Я не знаю ответа на этот вопрос, и от этого не становится легче»35. Однако за этим признанием в мемуарах А.Л. Литвина следует подробный рассказ о новом повороте его исследовательской работы в 1990-е гг. – о поиске и публикации ранее засекреченных архивных источников, прежде всего по истории гражданской войны и массовых репрессий. Профессиональный труд историка – написание книги, публикация источника – выступает в данном случае и как уплата долга личной памяти, и как вызов репрессивной машине, уничтожавшей людей и память о них, и как выполнение добровольно взятой на себя социальной миссии: «Проблема, на мой взгляд, состояла в том, чтобы идея недопустимости террора как государственной практики прочно овладела как населением, так и правителями»36.
Выполнение профессионального долга может осознаваться мемуаристом как единственно возможный и достойный ответ на самые разнообразные вызовы времени. Так, одним из лейтмотивов воспоминаний археолога М.Г. Рабиновича становится тема спасения культурных ценностей в критической ситуации (см. его рассказ о том, как он, аспирант, во время «московского осадного сидения» зимой 1941-1942 гг. в качестве и.о. директора Научной библиотеки Московского государственного университета спасал библиотечную коллекцию в пострадавшем от бомбежек здании, или у него же – об археологических раскопках в Кремле в 1959-1960 гг., буквально «из-под фундамента» строящегося Дворца съездов)37. Пережитый катастрофический опыт сближает историка с десятками и сотнями тысяч его современников; «ремесло историка» связывает его со средой коллег-профессионалов.
В качестве смыслового и сюжетного стержня мемуаров историков обычно выступает также их профессиональное становление, научная карьера, взаимоотношения с коллегами. В большинстве случаев, как представляется, мемуарист видит в качестве «идеальных читателей» именно своих коллег по историческому цеху; для них предназначаются те страницы и главы, которые содержат историю научных поисков, размышления о методах и социально-этических сторонах деятельности ученого, где – образно говоря – приоткрывается дверь в творческую лабораторию историка (архетипическим текстом в этом плане являются «Воспоминания и мысли историка» академика Н.М. Дружинина, первые мемуары историка, опубликованные в советское время – в 1967 г.)38. Собратьям по историческому цеху адресованы и те разделы мемуаров, где подробно рассказывается о межличностных отношениях коллег, об узах дружбы и преемственности или же о конфликтах в научной среде. В последнем случае, как правило, позиции сторон излагаются отнюдь не беспристрастно; и логика, и сам стиль повествования ясно дают понять, какую сторону в конфликте занимал и занимает по прошествии времени мемуарист, а читатель приглашается на роль заочного арбитра в этих «боях за историю».
Баланс между историей научного поиска и историей профессиональных коммуникаций в мемуарах может сдвигаться то в одну, то в другую сторону. Так, воспоминания А.Я. Гуревича дают возможность практически пошагово проследить траекторию его становления как оригинального историка с «лица необщим выраженьем», проделанный им путь от школы А.И. Неусыхина к историко-антропологической проблематике39. Рассказ о профессиональном становлении мемуариста и его «постоянной борьбе с окружающими социальными условиями, советской бюрократией, власть имущими недругами, консерватизмом мышления коллег»40 перемежается заочной дискуссией с М.М. Бахтиным и Ж. Ле Гоффом о моделях средневековой культуры, переплетается с методологическими размышлениями о том, «как развивается научное знание» и о причинах «коперниканского поворота» в исторической науке ХХ века41; текст выходит за рамки жанра воспоминаний, тяготея к научному, полемически заостренному очерку. В этом плане воспоминания А.Я. Гуревича, пожалуй, наиболее близки по замыслу к «Опытам эго-истории» – известному проекту П. Нора, который предложил видным французским историкам написать истории собственной научной жизни с применением профессионального эпистемологического инструментария42.
В свою очередь, книгу В.Б. Кобрина «Кому ты опасен, историк?» можно воспринимать как своеобразную школу «ремесла историка». Как было отмечено рецензентом, «три главы книги отражают три стадии исторического исследования»: поиск источников (история археографических экспедиций, в которых участвовал Кобрин), работа с источником (исследование угличского дела о гибели царевича Дмитрия, анализ четырех различных версий), наконец, формирование концепции (краткий очерк развития советской исторической науки, во многом построенный на основе личных воспоминаний)43. Все историографические и автобиографические сюжеты книги («академическое дело» 1930 г., судьба школы М.Н. Покровского, «борьба с космополитизмом», научная судьба С.Б. Веселовского, А.А. Зимина, Н.Я. Эйдельмана) построены вокруг проблем этики исторического исследования («честности историка») и норм профессионального поведения («правил научной игры»)44.
При всех различиях книги А.Я. Гуревича и В.Б. Кобрина объединяет внимание обоих авторов к методологии и методике исторического исследования. Показательно, что оба дают своим читателям своеобразный «мастер-класс» работы с историческим источником: А.Я. Гуревич под- робно пишет о важности исследовательского «вопросника», обращенного к источнику; В.Б. Кобрин – об умении находить «частицу исторической действительности» даже в тенденциозном источ-нике45. В воспоминаниях историка-германиста И.Я. Биска обширный раздел посвящен преподавательскому мастерству: мемуарист подробно делится со своим читателем опытом того, как строить лекцию, как вести семинарские занятия, как принимать экзамены, как осуществлять руководство дипломной работой студента, чтобы достичь ключевой цели преподавателя – «научить учиться»46. Воображаемый адресат мемуаров предстает во всех этих случаях не только как внимательный слушатель, но и как потенциальный ученик, готовый перенимать «ремесло историка»; мемуары становятся одним из способов трансляции профессиональных знаний и норм.
Примером нестандартного построения воспоминаний может служить работа И.В. Нарского «Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания и советское детство (Автобио-историо-графический роман)». В этой книге, определенной самим автором как «автобиографический эго-документ», соединяются несколько тематических пластов: детские воспоминания автора, реконструкция его семейной истории, очерки советской повседневности переплетаются с «дневником исследователя» – историей созревания замысла книги и его поэтапного воплощения, а также методологическими эссе, посвященными проблемам интерпретации визуальных изображений и изучения индивидуальной и коллективной памяти. Читая автобиографическую работу, читатель в то же самое время получает возможность проследить, как она рождалась, вместе с автором пройти путь создания научного труда – выдвижение гипотез, выбор методов, поиск свидетельств и доказательств, обсуждение идей с коллегами, сомнения, тупиковые ситуации и их преодоление... Создание научного текста является в книге и предметом исследовательской рефлексии, и актом семейной коммуникации (книга предназначена прежде всего «для ее ныне здравствующих героев» – близких людей автора, его дочерей и внука), и экзистенциальным событием («возвращением к себе, узнаванием себя»47). В современной историографии книга И.В. Нарского интерпретируется как пример новаторской «самодиагностики» историка48; впрочем, она до сих пор является единственной в своем роде.
Человек и профессиональная среда – едва ли не основная, центральная тема мемуаров историков. Каждая из таких книг может послужить бесценным источником прежде всего для изучения «историографического быта», сети коммуникаций и практик поведения в сообществе ученых. Пожалуй, в воспоминаниях Р.Ш. Ганелина наиболее отчетливо звучит мысль о том, что без знания этого контекста невозможно адекватное понимание историографического процесса ХХ века: «Производившийся в то время, о котором я рассказываю, историографический и источниковедческий анализ событий и явлений, независимо от того, к каким историческим периодам они относились, был связан с множеством обстоятельств, казалось бы, чуждых науке, но, к сожалению, очень и очень на нее влиявших, в гораздо большей мере, чем в другие времена… И для подлинно научных оценок историографии важны реалистические представления об условиях, в которых жили создававшие ее люди… Не только быт в узком смысле этого слова (в какой квартире жили и т. д.) имеется при этом в виду, но и житейские обстоятельства в отношениях между различными частями исторической корпорации, между историками и властью»49. Сходную мысль встречаем у А.А. Зимина: «Мне кажется, что без подобных свидетельств когда-то, лет через 50 будет очень трудно разобраться в борьбе страстей, в обстоятельствах, вызывавших появление тех или иных трудов»50.
Тема «историк в советскую эпоху» в силу очевидных причин занимает видное место в большинстве воспоминаний, приобретая – в зависимости от личности, убеждений и человеческого опыта мемуариста – то трагическое, то ностальгическое, то сатирическое звучание. Осмысление опыта жизни и работы историка в советском обществе строится вокруг таких сюжетов, как «историк и власть», «догма и научный поиск», практика цензуры и самоцензуры. Уже стала классикой типология «ролевых моделей», стратегий поведения советского историка, предложенная в воспоминаниях А.Я. Гуревича и В.Б. Кобрина. В числе таких стратегий мемуаристы называют различные способы ухода во «внутреннюю эмиграцию» (отказ от изучения истории ХХ в. и обращение к «более ранним периодам», «узкая специализация», «скрупулезный анализ источников», «разработка сугубо конкретных сюжетов без каких-либо широких обобщений»), а также практику самоцензуры (советский историк «исходил не только из собственных критериев истины или ее искажения, он предусматривал реакцию и заведующего отделом, и директора института, и тех сил, которые стоят за ним, т.е. идеологического отдела ЦК, и всяких других организаций»)51.
Воспоминания Е.В. Гутновой содержат рассказ о том, насколько сложным было соблюдение «правил игры» даже для тех историков, которые искренне стояли на марксистских позициях, не приемля лишь «вульгаризированных трактовок» марксизма; сколько «усилий, изворотливости и, конечно, компромиссных решений» требовалось историку, чтобы «провести свой корабль между этими рифами» (стремлением к «научно-объективному, уравновешенному подходу» к изучаемым явлениям – и необходимостью учитывать «догмы, остававшиеся непререкаемыми»)52. Эта практика могла восприниматься и как нечто само собой разумеющееся. Так, в воспоминаниях Н.А. Троицкого говорится: «В 60-80-е годы совершенно искренне, как естественный продукт коммунистической системы, считал марксизм “единственно правильным” учением, хотя и мало зависел от него в конкретных исследованиях. Занимаясь сюжетами, к счастью, далекими от современности, я, подобно своим коллегам, в предисловии к очередной книге всякий раз ссылался на марксизм-ленинизм как “методологическую основу” исследования, но само исследование вел по собственному разумению, опираясь не на цитаты из классиков марксизма, а на документы и факты»53.
Кульминационными эпизодами целого ряда мемуаров являются сцены «идеологической проработки» историков и их трудов, которые расценивались как отклонение от «генеральной линии»: «борьба с космополитизмом», «проработка» А.М. Некрича за книгу «22 июня 1941 г.», А.Я. Гуревича – за «Проблемы генезиса феодализма», А.А. Зимина – за монографию, посвященную «Слову о полку Игореве». Поскольку каждая из этих историй, как правило, подробно освещается не в одном, а в нескольких мемуарных памятниках, воспоминания историков здесь слагаются в своеобразный гипертекст, дополняя друг друга, вступая друг с другом в диалог или в заочный спор. Важно отметить, что и в этих кульминационных, драматичных, а порой и трагичных эпизодах внимание мемуариста направлено именно на выявление различных стратегий поведения коллег: ретивых «бойцов исторического фронта»; «доброхотов, кровно заинтересованных в том, чтобы на данного субъекта обрушились репрессии»54; тех, кто присоединился к хору осуждающих голосов не из корысти, но из страха и слабости; тех, кто сочувствовал жертвам проработок, но не смел выражать им своей поддержки открыто, и т.д. По сути дела, в тексте такие сцены предстают как ситуация испытания и для самого «прорабатываемого», и для его коллег; как своеобразные «моменты истины», позволяющие увидеть без прикрас человеческую сущность каждого, – или же как бессмысленные конфликты, мучительные для всех их участников. Не случайно именно вокруг таких эпизодов потом «ломаются копья» в рецензиях: яростные споры вспыхивают не только вокруг фактической стороны изложения событий, но и вокруг морально-этической оценки позиции самого мемуариста. Анализ этих конфликтов ни в коем случае не входит в задачу данного исследования, важно лишь отметить, что дискуссии вокруг «острых» мемуаров наглядно демонстрируют значение этических вопросов, проблем корпоративной солидарности и «доброй памяти» для идентичности ученого сообщества.
В особый жанр можно выделить воспоминания, написанные in memoria и посвященные взаимоотношениям мемуаристов с их учителями и наставниками. В тех случаях, когда такие выходят за рамки обычных юбилейных или же траурных очерков, в них ставится проблема научной преемственности в широком, социально-антропологическом плане: что именно учитель передал своим ученикам, в чем заключалась притягательность его как наставника?.. Лейтмотивом воспоминаний становится тема трансляции от учителя к ученикам практик поведения, стиля преподавания и научной работы. Самарский историк В.В. Кутявин пишет об этом так: «Стараюсь в своем сотрудничестве с дипломниками и аспирантами придерживаться правил, переданных мне Учителем [ленинградским ученым-полонистом С.М. Стецкевичем]» (в частности, права ученика на свободный выбор тем, восприятия ученика как полноправного соавтора научной работы, деятельной помощи ученикам в решении «бюрократических» вопросов организации защиты диссертации)55. Сходным образом высказывается об этой живой преемственности и другой ученик С.М. Стецкевича, С.И. Щеголев: «Очень нравилась его манера читать лекции, вести семинарские занятия, иногда я даже неосознанно подражал ему. Даже сейчас, спустя много лет, я ловлю себя на том, что использую выражения Станислава Михайловича, его интонации»56.
В данном случае – как и во многих подобных – речь идет о передаче не просто правил научной этики или манеры поведения, но групповой идентичности, внутреннего чувства принадлежности к единому сообществу. Так, В.С. Савчук предпринимает опыт реконструкции «картины мира», нравственных установок и поведенческих практик его вузовских преподавателей-историков – «старших коллег», у которых он учился и с которыми общался в 1960-1980-е годы. На примере четырех своих учителей он, по сути дела, ведет речь о групповой идентичности советской (точнее, «не во всем советской») интеллигенции того времени. Мемуарист выделяет такие ее черты, как способность к рефлексии, ощущение себя «не такими, как все», лишенное сервильности отношение к власти («могли обольщаться, но не умели пресмыкаться»), склонность к шутке и иронии, а самое главное – стремление, «во-первых, к сохранению культурного наследия во всей его полноте и, во-вторых, к расширению интеллектуальной свободы»57. Сходным образом очерчивает общие качества своих университетских учителей В.В. Кутявин: «Обладая выраженной индивидуальностью, все три моих Учителя (С.М. Стецкевич, В.А. Якубский, Л.А. Маркарянц. – О.Л.) имели общие черты: настоящий профессионализм, преданность делу… чувство внутренней свободы, личного достоинства и уважение к достоинству другого, в высшей степени присущее всем троим. Наверное, в основе этой внутренней свободы – образованность, интеллигентность как система понимания и взаимодействия с миром, даже если этот мир фальшивый и вульгарный»58. Р.Ш. Ганелин обрисовывает такие черты сообщества историков, как «иронический взгляд на дело», скептицизм («как научно-методический, источниковедческий, так и общеметодологический, политический»), профессионализм, неизбежно включавший в себя «осмотрительность и житейски полезную уклончивость»59.
«Сверхзадачей» мемуарного текста, посвященного взаимоотношениям с Учителем / Учителями, становится проблема возобновления преемственности (например, в воспоминаниях П.С. Кабытова главы «Учителя» и «Докторанты» следуют друг за другом, зримо воплощая идею преемственности60). Возможно ли сохранение той, особой культуры человеческих и профессиональных взаимоотношений и передача ее следующим поколениям – в наши дни, когда социокультурная ситуация по сравнению с 19601980-ми годами изменилась столь разительно?..
Исторический перелом 1990-х гг. представлен во многих мемуарах как некая новая поворотная точка. Как современник и очевидец историк-мемуарист фиксирует самые разнообразные – яркие и мрачные, трагикомические и абсурдные – приметы новой эпохи; как профессионал, отмечает прежде всего изменение «правил научной игры», условий для научной работы. В качестве позитивных перемен отмечается следующее: возможность зарубежных поездок, свободных дискуссий и обмена идеями с иностранными коллегами (иногда с горечью отмечается, что такая возможность была обретена с большим запозданием)61; открытие архивов, возможность восстановления исторической памяти и доброго имени жертв репрессивного режима62; возможность отыскивать семейные корни и открыто говорить об истории своей семьи63; обретение методологической свободы, исчезновение необходимости самоцензу-ры, возможность «перестать бояться и говорить, писать о том, что на самом деле думаю»64. Обретение ученым-историком новых социальных возможностей – например, опыта «хождения во власть» или «хождения в бизнес» – оценивается скорее иронично65.
В качестве негативных черт новой эпохи историки-мемуаристы отмечают падение уровня жизни ученого-гуманитария при резком возрастании объема учебной нагрузки66; снижение уровня профессиональных требований к историку и к публикациям на исторические темы67, стремительное формирование новых исторических мифов и их внедрение в массовое сознание68, распространение в публицистике и общественном сознании поверхностно-высокомерного отношения к «ремеслу историка»69. Может быть, самую горькую оценку происходящему дает В.С. Савчук, который, опираясь на мнение Г.С. Кнабе и С.Б. Рассадина, пишет, что за последние 20 лет «произошло обесценивание внутренней нормы интеллигентного бытия», что можно констатировать «факт исчезновения интеллигенции как сколько-нибудь замечательного социокультурного слоя»70. Однако сама публикация воспоминаний, сама рефлексия на эти темы, обращенная к сочувствующему читателю, по своей сути являются попыткой вправить «вывихнутый сустав времени».
Таким образом, мемуары историков, написанные (или пришедшие к отечественному читателю) на рубеже XX-XXI вв., как и их предшественники – мемуары историков, созданные в 1920-е гг., обладают особенностями, позволяющими рассматривать их как единый мемуарный комплекс – многоуровневый по своему содержанию.
Прежде всего, как и любые другие мемуары, воспоминания историка представляют собой опыт личностного самопознания, «возвращения к себе». Зачастую мемуары пронизывает некая сверхзадача, придающая им целостность и как личностному документу, и как литературному тексту: такой сверхзадачей может быть история профессионального становления или же история выполнения профессионального долга в ситуации столкновения с «колесницей истории» (эти две сверхзадачи могут взаимно дополнять друг друга).
За редким исключением, мемуары российских историков конца ХХ в. близки не к «эго-истории» в современном понимании этого термина, а к классической парадигме мемуаристики с ее жанровыми формами и акцентом на событийности. С остальной русской мемуаристикой ХХ века воспоминания историков объединяет прежде всего катастрофическое видение исторического процесса. «Бури эпохи» (война, массовые репрессии, идеологические кампании) предстают в тексте внезапными и иррациональными в своей разрушительной мощи. В то же время особенностью мемуаров историка является совмещение личностной и профессиональной позиции. Столкнувшись с «вызовом времени», мемуарист отвечает на него прежде всего тем, что выполняет свой профессиональный долг – «помнить» и «понимать»; такова «идеальная модель» поведения ученого, вызывающая безоговорочное одобрение мемуаристов.
Изменения исторической, социокультурной ситуации, как правило, представлены в тексте мемуаров со специфического ракурса: как изменялись условия научной работы, с какими типичными ситуациями приходилось иметь дело историку, какой выбор делал он сам и его коллеги, к каким последствиям для профессиональной карьеры и личных отношений это приводило. В центре же всех мемуаров, как правило, – мир профессиональных взаимоотношений и практик поведения историка в повседневной научной работе и в ситуациях конфликта. Лейтмотивом через мемуарные тексты проходит тема сохранения (или, напротив, разрушения и деградации) профессиональной культуры в условиях меняющихся «правил игры».
Включение в текст мемуаров методологических экскурсов, уроков работы с источниками свидетельствует, что в качестве идеального читателя своих воспоминаний историк-мемуарист видит прежде всего своих младших коллег по цеху. К ним же обращены, как правило, и часто встречающиеся в мемуарах размышления об этосе исторического исследования и профессиональных взаимоотношений. Тем самым мемуары приобретают характер социокультурного медиатора – «проводника», «передатчика» навыков ремесла историка от поколения мемуариста к поколению его читателей.
Сочетая признаки исторического источника, историографического факта и литературного текста, воспоминания историков несут ценную информацию о коммуникативных практиках научной среды, корпоративном этосе, стратегиях личного поведения ученого перед лицом вызовов эпохи, что позволяет рассматривать их как одно из проявлений антропологизации историографии, поворота к изучению «человека в науке» и «научного быта». Верность историка нормам профессиональной этики трактуется как экзистенциальный выбор, залог сохранения личностной и групповой идентичности в контексте «катастрофического русского историзма».
Список литературы Мемуары историков на переломе эпох: личностная рефлексия, профессиональная идентичность
- Павловская С.В. Дневники и воспоминания отечественных историков как исторический источник изучения общественно-политической и научно-педагогической жизни России конца XIX -начала XX веков. Дисс. … канд. ист. наук. Н.Новгород, 2006.
- Северная Н. Мемуары и дневники историков//Грани. 2010. Май №1. URL: http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=244286 (дата обращения 21 февраля 2016 г.).
- Хут Л.Р. Теоретико-методологические проблемы изучения истории Нового времени в отечественной историографии рубежа XX-XXI вв. М.: Прометей, 2010. С.104.
- Зверева Г.И. Обращаясь к себе: самопознание профессиональной историографии в конце XX века//Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып.1. М.: ИВИ РАН, 1999. С.250-251.
- Экштут С.А. Битвы за храм Мнемозины. Историческая память и социально-ролевые функции историка//Экштут С.А. Битвы за храм Мнемозины: Очерки интеллектуальной истории. СПб.: Алетейя, 2003. С.95-100
- Хестанов Р. Александр Герцен: Импровизация против доктрины. М.: «Дом интеллектуальной книги», 2001.
- Нуркова В.В. История как личный опыт//Историческая психология и социология истории. 2009. №1. С.5-27.
- Гуревич А.Я. История историка. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. С.121.
- Ганелин Р.Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой. Страницы воспоминаний о 1940-х -1990-х годах. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. С.33.
- Нарский И.В. Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания и советское детство (Автобио-историо-графический роман). Челябинск: ООО «Энциклопедия», 2008. С.331.
- Гуревич А.Я. История историка. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004.
- Зимин А.А. Храм науки (Размышления о прожитом)//Судьбы творческого наследия отечественных историков второй половины XX века/Сост. А.Л. Хорошкевич. М.: Аквариус, 2015. С.36-39.
- Ганелин Р.Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой. Страницы воспоминаний о 1940-х -1990-х годах. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. С.10-11.
- Литвин А.Л. Жизнь как выживание: Воспоминания и размышления о прошлом/предисл. И.Х.Урилова. М.: Собрание, 2013.
- Кабытов П.С. Судьба-Эпоха: автобиография историка. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2008. С.7.
- Кобрин В.Б. Кому ты опасен, историк? М.: Московский рабочий, 1992.
- Некрич А.М. Отрешись от страха. Воспоминания историка. London: Overseas Publications Interchange LTD, 1979.
- Ганелин Р.Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой. Страницы воспоминаний о 1940-х -1990-х годах. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. С.34.
- Гутнова Е.В. Пережитое. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. С.19-21, 86-87.
- Дружинин Н.М. Воспоминания и мысли историка. Изд. 2-е, дополн. М.: «Наука», 1979. С.4-9
- Троицкий Н.А. Книга о любви (Записки историка). Саратов: ОАО «Приволжское книжное издательство», 2006. С.20-22.
- Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М.: «Археографический центр», 1997. С.16, 19, 22.
- Паперно И. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель//Новое литературное обозрение. 2004. №68. С.112, 115-227, 120.
- Стецкевич М.С. Об отце//Памяти профессора Станислава Михайловича Стецкевича. Статьи и воспоминания. Казань, 2015. С.107.
- Рабинович М.Г. Записки советского интеллектуала/Публикация и коммент. О.В. Будницкого; вступ. статья Л.А. Беляева, О.В. Будницкого, В.Я. Петрухина. М.: Новое литературное обозрение; Международный исследовательский центр российского и восточноевропейского еврейства, 2005. С.185-200, 296-302.
- Дружинин Н.М. Воспоминания и мысли историка. Изд. 2-е, дополн. М.: «Наука», 1979. С.88-118.
- Зарецкий Ю. А.Я. Гуревич. История историка. М.: РОССПЭН, 2004. 288 с. Тираж 1500 экз. (Серия «Зерно вечности»)//Критическая масса. 2006. №3. -Сайт «Журнальный зал». URL: http://magazines.russ.ru/km/2006/3/za20.html (дата обращения 18 февраля 2016 г.).
- Нора П. Вступление и Заключение к книге «Опыты эго-истории»//Дискурс: коммуникативные стратегии культуры и образования. М., 2007. №14/15. С.56-68
- Троицкий Ю.Л. Эго-история//Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь/Отв. ред. А.О. Чубарьян. М.: Аквилон, 2014. С.541-543.
- Смирнов И.В. В.Б. Кобрин. Кому ты опасен, историк? М.: Московский рабочий, 1992. 225 с. Тираж 4000 экз.//Отечественная история. 1994. №2. С.213-216.
- Кобрин В.Б. Кому ты опасен, историк? … С.138-193, цит. с.184, 193. Там же. С.195-216, цит. с.208.
- Биск И.Я. Мой ХХ век: Записки историка. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2003. С.225-290.
- Кукулин И. Фотографическое печенье «Мадлен»//Новое литературное обозрение. 2008. №4 (92). С.211-224
- Янковская Г.А. Анти-Хаксли, или Миссия выполнима//Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 28. 2009. С.335-341.
- Ганелин Р.Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой. Страницы воспоминаний о 1940-х -1990-х годах. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. С.23.
- Памяти профессора Станислава Михайловича Стецкевича. Статьи и воспоминания. Казань: Изд-во «ЯЗ», 2015. С.118-120, 123, 125.
- Щеголев С.И. Мой С.М. Стецкевич//Памяти профессора Станислава Михайловича Стецкевича. Статьи и воспоминания. Казань: Изд-во «ЯЗ», 2015. С.142.
- Савчук В.С. Анатолий Москаленко и другие. Личные воспоминания историка как источник по проблеме групповой идентичности//Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 37. М., 2011. С. 224-254.
- Кутявин В.В. О моем университетском Учителе//Памяти профессора Станислава Михайловича Стецкевича. Статьи и воспоминания. Казань: Изд-во «ЯЗ», 2015. С.117-118.
- Ганелин Р.Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой. Страницы воспоминаний о 1940-х -1990-х годах. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. С.12-14.
- Кабытов П.С. Сквозь «лихие» и «нулевые»: Воспоминания. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2012. С.190-203.