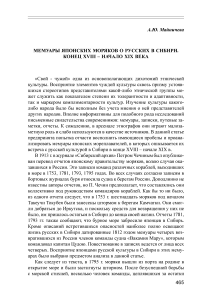Мемуары японских моряков о русских в Сибири. Конец XVIII - начало XIX века
Автор: Майничева А.Ю.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XIII, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521387
IDR: 14521387
Текст статьи Мемуары японских моряков о русских в Сибири. Конец XVIII - начало XIX века
«Свой - чужой» одна из основополагающих дихотомий этнической культуры. Восприятие элементов чуждой культуры сквозь призму устоявшихся стереотипов представителями какой-либо этнической группы может служить как показателем степени их толерантности и адаптивности, так и маркером комплиментарности культур. Изучение культуры какого-либо народа было бы неполным без учета мнения о ней представителей других народов. Вполне информативны для подобного рода исследований письменные свидетельства современников: мемуары, записки, путевые заметки, отчеты. К сожалению, в арсенале этнографов они играют малозаметную роль и слабо используются в качестве источников. В данной статье предпринята попытка отчасти восполнить имеющиеся пробелы и проанализировать мемуары японских мореплавателей, в которых описывается их встреча с русской культурой в Сибири в конце XVIII – начале XIX в.
В 1913 г. в журнале «Сибирский архив» Петром Чечиным был опубликован перевод отчетов японскому правительству моряков, волею случая оказавшихся в России. Это записки команд различных кораблей, выходивших в море в 1753, 1781, 1793, 1795 годах. Во всех случаях согласно записям в бортовых журналах буря относила судна к берегам России. Доподлинно не известны авторы отчетов, но П. Чечин предполагает, что составлялись они коллективно под руководством командиров кораблей. Как бы то ни было, из одного отчета следует, что в 1753 г. шестнадцать моряков под началом Такеучи Токубея были занесены штормом к берегам Камчатки. Они смогли добраться до Иркутска, и поскольку средств для возвращения у них не было, им пришлось остаться в Сибири до конца своей жизни. Отчеты 1781, 1793 гг. также сообщают, что бурное море забросило японцев в Сибирь. Кроме описаний встретившихся опасностей наиболее полно освещают жизнь русских в Сибири датированные 1812 годом мемуары четырех возвратившихся из России членов команды судна «Вакамия Мару», которым командовал капитан Цудою. Повествование в записях ведется от лица всех четверых. Восприятие японцами русской культуры в Сибири в этих мемуарах было выбрано предметом анализа в данной статье.
Как следует из текста, в 1795 г. моряки вышли из порта на родине в открытое море и были застигнуты штормом. После безуспешной борьбы с морской стихией, несколько человек команды, цеплявшихся за остатки судна, прибило к берегу незнакомого острова, где жили, по словам авторов мемуаров, вполне добродушные туземцы со странной наружностью. Местные жители приютили японцев в своих землянках и делили с ними пищу. Первая встреча с русским произошла восемь дней спустя. Вот как описывают ее японцы: «…к нашему острову приехал на сделанной из кожи лодке какой-то странный человек с величественной наружностью. Его сопровождало около десяти туземцев, вооруженных топорами и ружьями» [Записки японцев…, с. 127]. Как выяснили потерпевшие, это был русский начальник здешнего района. Ему удалось достаточно быстро установить контакт с моряками, хотя он не владел японским, а они не говорили по-русски. «Русский начальник» постарался выяснить подробности происшедшего с японцами и незамедлительно снабдил их едой.
Далее авторы сообщили, что их отправили в порт Натка, где на берегу жили 40 туземцев и тот самый «русский начальник», имя которого осталось неизвестным. Ничто не ускользало от внимания авторов отчета, весьма обстоятельно они описали и взаимоотношения русских и местных жителей, и русские жилища, и пищу. Туземцы встретили русских враждебно, «градом копий осыпали русские суда». Особо отмечено, что русские, проживавшие на острове, учились у туземцев метать копья, но по замечанию авторов «не могут достигнуть того искусства, которое дается туземцам с рождения» [Там же, с. 129]. Избы русских были расположены на самом берегу моря и сделаны из бревен, прибитых морскими волнами, крыши покрыты травой, поверх которой положена глина. Основу питания составляли яйца морских птиц и рыба.
Дальнейшее повествование построено в форме «одиссеи». Описывается путешествие команды моряков по городам России, чтобы попасть в столицу – Санкт-Петербург, для получения разрешения на возвращение в Японию. Значительное место отведено рассказу о сибирских городах, что вполне объяснимо, поскольку маршрут японцев шел через них. С нескрываемым удивлением авторы пишут, что от Якутска до Охотска им попалось всего три станции [Там же, с. 131], количество домов на которых было от 10 до 20. Якутск они называют большим областным городом, с двумя тысячами жителей. Почти все дома города были небольшими деревянными, стояло всего три храма и казенное учреждение из камня. Картина несколько меняется на пути из Якутска в Иркутск – станций было гораздо больше, количество домов на каждой также увеличилось – 50-100, причем почти на каждой станции были церкви [Там же].
Иркутск поразил моряков. Они называют его самым красивым и большим городом Сибири. О городских храмах сказано, что они великолепны. Отмечено и их число – 13 каменных церквей [Там же, с. 132]. В Иркутске японцы прожили около восьми лет и основательно его изучили. Они пишут, что город раскинулся на очень больших пространствах, в нем много красивых деревянных и каменных зданий. Моряки посчитали нужным сравнить улицы Иркутска с теми, что им были привычны: «…улицы… очень широки и по ним в один ряд свободно могут проехать три телеги» [Там же]. Особо мореплаватели отметили свою неожиданную встречу со своим соотечественником Сенчо, ранее также потерпевшим кораблекрушение и приехавшим в Иркутск. Сенчо вначале смутился, был крайне обеспокоен, что его сограждане осудят его. Но увидев доброжелательность с их стороны, рассказал свою историю. Он крестился, взял имя Николая Хайтаровича Корочетено, женился на русской и обзавелся детьми. На жизнь стал зарабатывать службой у генерал-губернатора переводами и обучением русских чиновников японскому языку. Несмотря на то, что он одет был в русский костюм, по мнению японцев, «своим ростом и чертами лица он все же резко выделялся из русской среды» [Там же].
Подробнейшие описания города знакомят читателя с планировочной структурой и обликом города, а также с бытом и хозяйством горожан. Указываются товары, продаваемые на базаре, в том числе мясные продукты и рыба, сообщается об огородных культурах, выращиваемых горожанами, среди которых называются и посевы табака. Отмечается особое пристрастие иркутян к теплу в домах, для чего ставят несколько печей, что позволяет им находиться зимой в помещении «в одной рубашке» [Там же, с. 134]. Особое восхищение у японцев вызывали бани. Они делали сравнение русских бань с японскими, явно в пользу русских, подробно повествуя, как ими пользуются.
Находят они и сходство с японскими обычаями, например, в питании: «Русские едят так же, как и японцы, 3 раза в день» [Там же]. Пище посвящены одни из ярких страниц мемуаров. Подробнейшим образом описывают моряки излюбленные иркутянами продукты, среди которых перечисляются хлеб пшеничный и ржаной, «коровье мясо», молоко, капуста. Конечно же, японцы не могли не отметить, что русские мало едят риса, который является в Японии основной злаковой культурой, готовя из него только кашу на молоке для детей.
Пристрастие русских к коровьему молоку сравнивается с предпочтениями якутов, которые с большей охотой употребляют «лошадиное и оленье молоко». Замечают они, что якуты умеют из молока делать напиток, «от которого легко можно опьянеть» [Там же, с. 135]. Кроме того, «русские мужчины очень любят пить спиртной напиток, приготовленный из пшеницы. Он очень крепок для нас, японцев, но русские могут выпить его очень много» - пишут авторы [Там же, с. 136].
Заметили моряки и то, что система питания русских в пост отличается от обычных дней ограничением в употреблении мясных продуктов, в пользу рыбных блюд, причем «рыбу варят и жарят вместе с маслом в муке» [Там же].
Немного замечаний касается зимней одежды русских: «…носят очень теплые шубы, сделанные большей частью из шкур диких животных и овец. Простые же бедные крестьяне носят шубы, сшитые из собачьих шкур» [Там же].
Несколько абзацев мемуаристы посвятили «туземцам», живущим «возле Иркутска», имея в виду бурят, про которых они пишут, что «…они жили здесь до покорения Сибири русскими» [Там же], далее давая краткое описание их внешности: «…глаза у них черные косые. Они все низкого роста и своей внешностью сильно отличаются от русских» [Там же]. Любопытно, что со своей внешностью авторы их не сравнивают, являясь как бы сторонними наблюдателями. Внимательные наблюдатели отметили также, что многие буряты хорошо знают русский язык и ходят в русской одежде, а их религия совершенно отличается от русской.
Заканчивая описание своей жизни в Иркутске, авторы замечают, что они так и не смогли привыкнуть к здешней обстановке, всем хотелось вернуться на родину: «несмотря на то, что русские нас хорошо кормили и одевали, но все же жизнь здесь совсем другая» [Там же, с. 136]. На прощанье Иркутский генерал-губернатор подарил им по суконному костюму и отправил в Санкт-Петербург через Томск, Пермь, Казань, Москву, в целом такая поездка заняла 50 дней [Там же]. Поскольку ехали круглосуточно и очень быстро, то Иркутск стал последним русским сибирским городом, о котором писали японские моряки. Все они получили разрешение для возвращения на родину, но из 13 японцев, выехавших из Иркутска, вернулись в Японию четверо, девятеро умерли, не перенеся невзгод трудного пути.
Таким образом, при первом знакомстве с русскими японским морякам многое казалось странным, а коренных обитателей приокеанских берегов России они считали дикими, однако они отмечают их доброжелательность и гостеприимство. Судя по тональности повествования, русские выступали для них представителями понятной им развитой культуры. Жизнь в Сибири японцы считали вполне приемлемой, в своих записках они не давали волю своим чувствам, а отмечали отдельные детали, привлекшие их внимание. Благодаря авторам мемуаров, волей случая заброшенных в чужую для них страну, современные исследователи могут выделить описания нескольких значимых элементов этнической культуры русских в Сибири, а именно, понять особенности жилищ, пищи, одежды; а также определить некоторые отличия русской культуры от якутской, бурятской, японской; сделать вывод о неоднозначности взаимодействия этнических культур и взаимоотношениях их представителей; увидеть адаптационноадаптивные возможности русской культуры, вовлекающей в сферу своего действия другие народы.