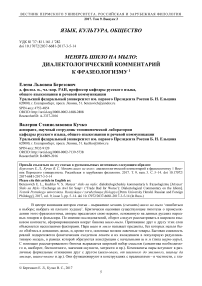Менять шило на мыло: диалектологический комментарий к фразеологизму
Автор: Березович Елена Львовна, Кучко Валерия Станиславовна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 т.9, 2017 года.
Бесплатный доступ
В центре внимания авторов статьи - выражение менять (сменять) шило на мыло 'ошибиться в выборе; выбрать из плохого худшее'. Критически оценивая существующие гипотезы о происхождении этого фразеологизма, авторы предлагают свою версию, основанную на данных русских народных говоров и фольклора. По мнению исследователей, оборот следует рассматривать в широком языковом контексте, сформировавшемся вокруг бинома шило-мыло. Притяжение друг к другу этих слов объясняется несколькими факторами. Пара шило и мыло называет предметы, без которых нельзя было обойтись в домашних делах, и, кроме того, основные мелкие лавочные товары. Бытовая смежность реалий подкрепляется фонетическим сходством лексем и их вхождением в популярную редуплика-тивную модель, в рамках которой образуются конструкции с начальными ш и м (типа шуры-муры). С помощью рассматриваемого бинома выражается широкий набор смыслов (семантика необходимого и, наоборот, бесполезного, значения скупости, хитрости и пр.). Компоненты пары вступают в различные формальные отношения друг с другом (шило-мыло, от шильного до мыльного, шильце да мыльце, шилье-мылье и др.). Они функционируют в конструкциях с предикатами - в частности, с гла голами перевести (свести) и менять (променять). Эти глаголы определяют их вхождение в две фразеологические модели, существующие в народной речи: с одной стороны, выражения с глаголами перевести и свести, означающие безрезультатный труд и напрасные усилия (свесть на мыльный пузырь), с другой стороны, идиомы с глаголами менять, променять, означающие бессмысленный и неравноценный обмен (променять быка на индыка). По предположению авторов, выражения свести (перевести) шило на мыло хронологически появились раньше, чем обороты с «обменной» семантикой.
Русские народные говоры, русский фольклор, русская диалектная фразеология, этнолингвистика, семантико-мотивационная реконструкция
Короткий адрес: https://sciup.org/14729524
IDR: 14729524 | УДК: 81''37: | DOI: 10.17072/2037-6681-2017-3-5-14
Текст научной статьи Менять шило на мыло: диалектологический комментарий к фразеологизму
Во фразеологическом корпусе любого языка есть «простые» выражения с низкой степенью идиоматичности, которые редко становятся объектом семантико-мотивационной реконструкции, поскольку их внутренняя форма интуитивно кажется прозрачной. К числу таких выражений относится, к примеру, оборот садиться не в свои сани , о котором мы писали ранее, пытаясь раскрыть этнографический и языковой контекст, способствовавший формированию идиомы [Бе-резович 2013; Березович 2014: 165–173]. Тогда мы отмечали, что в подобных случаях сложна не столько сама реконструкция, сколько верификация ее результатов [Березович 2013: 177]. Еще одно выражение из этого ряда – менять шило на мыло . В настоящей статье будет дан диалектологический комментарий к этой фраземе , причем так же, как и в предыдущем случае, задуматься об истоках оборота нам позволили полевые находки, сделанные сотрудниками Топонимической экспедиции Уральского федерального университета (ТЭ УрФУ) на востоке Вологодской и Костромской областей в 2013–2016 гг.
Выражение менять ( сменять ) шило на мыло употребляется в современном разговорном русском языке для описания ситуации неудачного выбора, когда что-либо малоценное меняется на объект такой же ценности: шило на мыло сменять ‘прогадать, ошибиться в выборе (поговорка)’ [Шведова 2007: 1107]. Смысловой акцент может быть сделан на более низком качестве того, что выбрано взамен имевшегося раньше, ср. менять ( поменять ) шило на мыло ‘выбирать из плохого худшее’ [РФ: 768]. Ср. иллюстративные контексты: «Знали его тогда как менялу: менял шило на мыло. И, верно, наберет в сидор ниток, иголок, кружек, ложек, пуговиц – и обменивает на яйца, масло, хлеб, больше всего на яйца. Разбогатеть от такого оборота, ясное дело, он не мог, но кормился, пока носили ноги, вроде неплохо» <В. Распутин. Прощание с Матерой>; «Говорили, что Ильин парень не промах и не из тех, кто меняет шило на мыло» <А. Розен. Прения сторон> [ФРР: 811].
Изучаемый фразеологизм уже не раз привлекал к себе внимание исследователей. В литературе по фразеологии распространена версия, принадлежащая В. М. Мокиенко, которая изложена в работах: [Мокиенко 1980: 29–30, 149; ФРР: 811–812; РФ: 768]. Согласно этой версии оборот менять шило на мыло «восходит к диал. выменять шило на свайку, где свайка – ‘толстый гвоздь или шип с большой головкой для игры в свайку’. Логичность внутренней формы этого оборота несомненна, особенно если учесть отрицательную окраску “нетрудового”, “игрового” термина свайка (в этой игре свайку нужно было острием воткнуть в землю в очерченный кон) по сравнению с названием полезного инструмента шило. Ср. народные выражения, образованные по этой модели: выменять кукушку на ястребца, променять быка на индыка, поменять валенок на калошу и т. п. Замена слов свайка на мыло в сочетании регулируется рифмой – как и в укр. вимiняти шило на швайку и вымiняти шило на мило (шило на мотовило). Ср. также устар.: перековать лемех на свайку – ‘о людях, меняющих трудовую жизнь (соху) на безделие’. Этот оборот имеет древние (греческие) аналогии типа “Сошник оставлен, да и вышла игла игорная (т. е. свайка)”» [ФРР: 812].
Приведенная версия, возможно, справедлива, однако некоторые сомнения в связи с ней высказать можно. Думается, фразеологизм-«источ-ник» выбран произвольно. Немотивированность такого выбора подтверждается фиксацией в русских говорах выражений, в которых шило предстает не заменяемым, а заменяющим; ср., например, перм. свести жило на шило ‘променять хорошее на плохое; то же, что променять шило на мыло ’: «Новый председатель в колхоз пришёл, дак жило на шило свёл. Продал склады, себе дом поставил» [СРГКПО: 218]. Кроме того, выражение менять шило на свайку фиксируется в говорах также в варианте менять шило на швáйку (волгоград.) ‘совершать неудачную сделку’ [СДГВО: 316], который предполагает иную расстановку смысловых акцентов, чем в процитированном объяснении: шило меняется на шило другого рода, ср. волгоград. швáйка ‘шило для работы с кожей, изготовления ременной упряжи’ [СДГВО: 670].
Не соглашаясь с гипотезой о первичности варианта с компонентом свайка, Д. С. Соломеина предлагает свою интерпретацию фразеологизма. Опираясь на ряд родственных лексеме шило глаголов, которые несут отрицательную семантику (иссык-кульск. вшивáть ‘бить кого-нибудь’, ка-луж. нашивáть ‘побить, поколотить’, ворон. пе-решивáть ‘одолевать кого-либо в драке, бою’, иркут. пришивáть ‘убить, застрелить (животное)’, жарг. пришúть ‘убить кого-либо’ и др.), автор отмечает, что шило являлось не только инструментом для шитья, но и орудием разбоя, см.: [Соломеина 2014: 55]. Еще одной отправной точкой для ее рассуждений служит тот факт, что в пространстве Интернета рассматриваемый оборот встречается в варианте менять шило на мыло и веревку. На этих основаниях Д. С. Соломеина делает вывод о том, что «значение ‘выбирать из плохого худшее’ вторично, исходное же значение было таково: менять шило – жизнь разбоем, криминалом, на мыло и веревку – виселицу. Показательно в данном контексте выражение менять жило на шило, где, на наш взгляд, отражена ситуация смены спокойной, (условно) честной жизни на разбой (шило). <…> Таким образом, выражение менять шило на мыло, на наш взгляд, представляет собой эллипсис более раннего менять шило на мыло и веревку» [там же: 55–56].
Уязвимость этой гипотезы, с нашей точки зрения, состоит главным образом в отсутствии словарных или текстовых фиксаций предполагаемого первичного варианта фразеологизма: его действительно можно обнаружить в сети Интернет, однако нам он встретился только в составе анекдота «Меняю раритетное шило на мыло, веревку и табуретку», который образовался, очевидно, на базе общенародного шило на мыло , а не наоборот.
На различных интернет-форумах популярностью пользуется версия, согласно которой фразеологизм менять шило на мыло перешел в разряд общеупотребительных из профессионального жаргона сапожников. Вот развернутая цитата, неоднократно воспроизводимая в интернет-пространстве: «В старину металлический наконечник инструмента изготавливался из железа, а потому быстро ржавел, и прокалывать им неподатливую кожу становилось очень сложно. Поэтому его натирали кусочком мыла, что позволяло значительно облегчить трудовой процесс. Оба предмета <шило и мыло>, следовательно, сапожнику были совершенно необходимы, и менять один на другой было нецелесообразно. Ведь без шила или без мыла работать становилось невозможно. Отсюда и вытекает искомое лексическое значение современного фразеологизма» (см., к примеру: [http://www.liveinternet.ru/users/ 4444754/post390924711/]). При обсуждении этой гипотезы сомнение вызывают два момента: неясно, во-первых, зачем в среде мастеров появилась несколько абсурдная мысль о мене необходимых для работы инструментов, во-вторых, почему выражение, возникшее (и понятное) в рамках дискурса, связанного с узкоспециальной деятельностью, получило широкое распространение.
Встречается предположение о том, что шило в изучаемом фразеологизме первоначально имело другое значение: «Шило – это старое жаргонное название спирта. Врачи в XIX веке при работе с пациентами обеззараживали руки спиртом. Позднее приказом было введено обезжиривание рук с помощью мыла. Спирт запретили. Вот тогда и появилось выражение “менять шило на мыло”» [ http://www.proza.ru/2016/12/09/1083 ]. Эта гипотеза выглядит гораздо менее правдоподобной, чем предыдущая, поскольку, во-первых, исходит из значительного семантического сдвига, произошедшего со словом шило в рамках выражения, а во-вторых, предполагая историчность и закономерность мены шила на мыло , не объясняет значения всего выражения, указывающего на бессмысленность и невыгодность обмена.
Таким образом, ни одна из представленных выше гипотез о происхождении выражения менять шило на мыло не кажется удовлетворительной. В самом деле, трудно с точностью установить, когда и как возник этот оборот, поскольку те предметы, о которых идет речь, действительно употреблялись в разнообразных ситуациях, а языковая форма (рифма) могла способствовать «подверстыванию» слов шило и мыло друг к другу без достаточного «бытийного» обоснования. Однако такой научный агностицизм преждевременен; он всегда может быть последним убежищем для лингвиста, но сначала следует проанализировать все возможные на сегодняшний день версии. Ниже будет представлена версия авторов данной статьи, которая базируется в первую очередь на диалектном материале .
***
Сначала попытаемся выявить варианты данного выражения и выяснить (по возможности), в какой последовательности они появлялись в языке. По данным Национального корпуса русского языка [НКРЯ], сочетание шило на мыло может употребляться без «распространителей» («Какая разница? Шило на мыло! – смеялись кадровички» <М. Трауб. Семеновы (2009)2> или с распространяющими глаголами менять (сменять) и переводить. Примеры употребления фразеологизма шило на мыло (менять, переводить), за единственным исключением (см. ниже контекст, принадлежащий А. И. Эртелю), отно- сятся к ХХ и ХХI вв., причем самая ранняя фиксация варианта менять шило на мыло датируется серединой XX в.: «Ежели бы работящий народ подобрался, да с достатком, да еще бы трактор заиметь, тогда бы и в артели жить можно. А сейчас, говорит, все равно, что шило на мыло менять. Из десятков кляч трактора не соберешь» <А. И. Мусатов. Большая весна (1957)>. Вариант оборота с глаголом переводить впервые фиксируется во второй половине XIX в.: «Коров выдумал кормить, чтоб молока больше давали… А мне что ее, корову-то, раскармливать, коли никакого антересу от эфтого нет?.. Шило на мыло переводить?.. Нет, шалишь!» <А. И. Эртель. Записки Степняка (1883)>. В такой же форме выражение встречается на полвека позднее: «Мы до заморозков прошлую осень пахали зябь, а они с Покрова хворост зачали делить, шило на мыло переводить» <М. А. Шолохов. Поднятая целина (1932)>. Судя по контекстам, оборот шило на мыло переводить имеет семантику бессмысленной траты времени и усилий, а не бессмысленного обмена. По всей видимости, этот вариант не получил широкого распространения, – возможно, из-за того, что буквальный смысл фразеологизма шило на мыло переводить оказывается менее понятным, чем хорошо представимая картина обмена шила и мыла.
Варианты оборота с глаголами менять и переводить ( сводить ) отмечены и в народных говорах : пск. шило на мыло сменять ( променять ) ‘невыгодно обменять что-л., прогадать, не получить выгоды при обмене’ [СППП: 82], перм. шило на мыло менять ‘хитрить, ловчить’: «С тобой выиграешь! Ты шило на мыло меняешь» [ФСПГ: 214], перм. свести шило на мыло ‘утаить; замести следы’: «Была ревизия-то у их, да свели шило на мыло, ревизор-от заодно с кладовщиком»; «Мне надо было получить за две недели, а мне-ка ничего не выдали, свели шило на мыло» [СПГ 2: 321], костр. шило на мыло хочет свести (кто-л . ) ‘хочет выпутаться из затруднительного положения’ [СРНГ 36: 308], курск. перевести шило на мыло ‘о бесполезном труде’ [БСРП: 751], курск. свести шило на мыло ‘скрыть улики, утаить что-л.’ [там же], волгоград. перевесть шило на мыло ‘истратить попусту, неудачно провести какую-л. сделку’: «Пиривесть шылу на мылу – ниудачна таргавать или зделыть што-та, карочи, зделка биз выгады»; ‘испортить что-л., из хорошего материала сделать плохую вещь’: «Такая даска была, а сляпил каку-то ярунду, пи-рявёл шылу на мылу» [СДГВО: 410].
Образный центр всех выражений заключен в словах шило и мыло. В зависимости от значений распространяющих глаголов можно выделить две различные семантико-синтаксические модели. Первую из них составляют обороты с глаголом менять. Они входят в ряд других фразем с этим предикатом, обозначающих бессмысленный или неравноценный обмен; некоторые из них приводились выше (например, променять бы́ка на инды́ка); можно найти еще примеры: костр. менять одрá (чёрта) на пáдера [Бормотова, Малькова 2016: 46], орл. менять грош на грош [БСРП: 164], новг. променять серкá на волка [Сергеева 2004: 216] и др. Другая модель представлена оборотами с глаголом свести и однокоренными, которые означают безрезультатную работу или напрасное расходование чего-л., ср. общенар. свести на нет, дон. свесть на мыльный пузырь ‘о напрасном, безрезультатном деле, работе и т. п.’ [СРНГ 36: 251], волгоград. переводить на воду (на муку) ‘тратить бесполезно, расходовать без надобности’ [СДГВО: 410] и др.
Среди «шильно-мыльных» диалектных фра-зем количественно лидируют те, которые созданы в рамках второй модели. Это обстоятельство, а также тот факт, что выражение переводить шило на мыло хронологически опережает менять шило на мыло в корпусе контекстов из [НКРЯ], позволяют высказать следующее предположение: глагольные компоненты свести , перевести , переводить могли быть первичными по отношению к более позднему варианту с участием глагола менять . При этом именно глагол менять повлиял на формирование современной семантики оборота в литературном языке – ‘прогадать при выборе’. Показательно, что значения некоторых диалектных фразеологизмов с глаголом менять отличаются от литературного варианта (ср. перм. менять шило на мыло ‘хитрить, ловчить’), но при этом семантически близки к выражениям с глаголом свести (перм. свести шило на мыло ‘утаить; замести следы’, костр. шило на мыло хочет свести кто-л. ‘хочет выпутаться из затруднительного положения’, курск. свести шило на мыло ‘скрыть улики, утаить что-л.’). Это тоже аргумент в пользу первичности выражений с глаголом свести ( перевести ).
Возможно, «перевод» шила на мыло имеет особое образное основание: мыло обладает способностью быстро тратиться, таять на глазах, «измыливаться», потому переводить на мыло буквально означает неправильно «эксплуатировать», портя или растрачивая что-либо. Отметим, что при позднейших переосмыслениях возможен еще один поворот образа: среди различных рецептур изготовления мыла была варка его из животных жиров (в том числе из падали), поэтому «перевод» на мыло мог означать шутливую3 угрозу сварить из кого-либо мыло, ср.: «В инва- лиды его, на мыло, в пенсионеры!» <В. Гроссман. Жизнь и судьба (1960)>; «Будучи не согласен с очередным решением девушки-судьи, этот звериного вида человек вдруг проревел хриплым, противным голосом затасканную фразу: “Судью на мыло!”» <Е. Весник. Дарю, что помню (1997)>. Образ такого рода лежит и в основе выражения в архúло на мыло ‘о ненужности, непригодности кого-н.’: «Нас, старых, теперь в архило на мыло» (ленингр.) [СРГК 1: 23].
Обратимся к неизменным компонентам изучаемых выражений – «связке» шила и мыла . Их притяжение друг к другу в сопровождении различных глаголов вполне закономерно и обусловлено, во-первых, внеязыковыми обстоятельствами, отразившимися в языке и повлиявшими на формирование обширного контекста, в котором появились изучаемые обороты, а во-вторых, собственно языковыми факторами.
Начнем с внеязыковых обстоятельств .
Шитье и мытье – два рутинных занятия, необходимых в ежедневном быту и, как свидетельствуют многие тексты XIX и XX вв., неразрывно связанных друг с другом в сознании говорящих о домашней работе, ср. некоторые примеры: «Мы с женою, сжалившись, согласились взять ее к себе и приобщили к малолетним моим дочерям Татьяне и Пелагее для того только, чтоб она шила на них детское платье и мыла , чему она отчасти разумела» <Л. А. Травин. Записки (1806– 1808)>; «Она не кокетничала своей борьбой с нуждой, а делала все – шила и мыла , кормила ребенка, варила мясо и чистила комнату» <А. И. Герцен. Былое и думы (1866)>; «Вечера – в жутком изнеможении или за шитьем , мытьем или еще чем-нибудь» <О. А. Бессарабова. Дневник (1918)>; «Она руководила всей жизнью: зарабатывала, перевозила на дачу и с дачи семью, заколачивала гвозди, шила , мыла , готовила и очень долго сохраняла моложавость и красоту» <В. Д. Пришвина. Невидимый град (1962)>.
Эти занятия, пусть необходимые, воспринимались как более легкие, чем основной производственный труд (особенно крестьянский), тем более что были они преимущественно женскими. Развернутой иллюстрацией такой оценки подобных занятий служит выражение, неоднократно зафиксированное ТЭ УрФУ в Костромской и Вологодской областях, – от шильного до мыльного ‘о занятых незначительными делами’: «Переделал всё от шильного до мыльного, дома-то сидел, в поле не работал» (костр.) [ЛКТЭ]; «В Пермасе люди ленивые, знали только свой дом. Население большое, а полей не было, вот и занимались от шильного до мыльного» (влг.) [КСГРС]. В последнем контексте речь идет о деревне Пермас
Никольского района Вологодской области, многие жители которой занимались ямским делом и ремеслами (катанием валенок, изготовлением посуды и пр.). Показательно развитие семантики выражения от шильного до мыльного : отталкиваясь от обозначения «шильных» и «мыльных» домашних дел и невысоко их оценивая, оно стало обозначать также пустые занятия, плохо сделанную работу и даже безделье: влг. от шильного до мыльного ‘кое-как, еле-еле’: «Ну, от шильного до мыльного работал, ничего и не сделал»; ‘о несущественных занятиях, безделье’: «Ходят от шильного до мыльного, слоняются, ничем не занимаются»; ‘о людях, не способных к труду, не любящих работать’: «От шильного до мыльного – не работают, где-то что-то перехватят, случайный заработок, опять потом ждут»; «Жили от шильного до мыльного, кое-как перебивались» [КСГРС]. Закрепление за фразеологизмом семантики чего-либо незначительного повлекло за собой его употребление в значении ‘недалеко, на небольшие расстояния’, ср. «Ой, папа, ты от шильного до мыльного только ездишь»; «Иди, сбегай от шильного до мыльного, до Дёмина» (влг.) [там же].
Вышесказанное позволяет сделать два вывода: такие бытовые занятия, как шитье и мытье, в языковом сознании нередко связываются друг с другом, однако они могут восприниматься как незначительные, пустяковые дела по сравнению, например, с работами в поле.
Бытовая и, как следствие, языковая связь шила и мыла представлена также в обозначении мелких предметов – чаще всего, мелких лавочных товаров, необходимых в быту, в том числе в занятиях шитьем и мытьем: волгоград. шило-мыло ‘разные хозяйственные мелочи’ [СДГВО: 673], иркут. шúлье-мы́лье ‘мелкий товар: нитки, иголки и т. п’ [ФСРГС: 220], томск. шúлье да мы́лье ‘мелкие дешевые товары’: «Купцам продавали скот за дешёвку, отец скотину разводил, продавал по двенадцать рублей голова. Они потом шильем да мыльем эти купцы, чё и не надо, а они предлагают» [СРГС 5: 343], обонеж. шúлье да мы́лье ‘то же’ [КСРНГ], тул. шúлье-мы́лье ‘о мелочных товарах: иголки, нитки и т. п.’ [СРНГ 19: 55], оренб. шúльце да мы́льце ‘мелочь, пустяки’: «А какой он купец, прости господи! Казанский татарин, не больше: на Меновном в коробу торгует. И товару-то всего на грош, шильце да мыльце » [Малеча 2: 458], морд. шúлки-мылки ‘мелкие предметы, мелочь’: «Хватилси, шурупъф нет. Зъфсягда шылки-мылки купить зъбываш» [СРГМ 2: 1518].
Таким образом, шило и мыло стали своего рода символом мелочей, необходимых в семейном быту. Именно в таком статусе этот бином выступает в свадебном фольклоре: в числе ритуалов свадебного обряда был сбор денег «молодым на шильце, на мыльце, на бело белильце» [Даль 2: 953], «на шильце, на мыльце, на кривое веретенце» [Даль 4: 1433], моск. «на донце, на веретёнце, на шильце, на мыльце» [НКРЯ]; ср. также тамб. «Нам много надобить: На шшотки, на гребенки, На кривыя веретены, На кушачки, на тарачки, На ластовицы и на гашнички, И на мыльца, и на шильца, И на белилица, и на румя-ница» [СПТГ 1911: 149]. Эти предметы были и среди подарков, которые преподносились молодым (или жених дарил невесте перед свадьбой) [Гура 2012: по предметно-тематическому указателю]. Устойчивость подобных текстов позволяет включить бином шило-мыло в число парных слов русского фольклора4; подробнее об этом далее.
Можно констатировать, с одной стороны, важность предметов для мелких бытовых нужд: что-либо никуда не годное не попадает ни в «шильную», ни в «мыльную» категорию (без указ. места ни шильце, ни мыльце ‘ни то ни се’, ни к шилу, ни к мылу ‘то же’ [Даль 2: 953]); с другой стороны, их незначительность – эти обороты обозначают нечто ненужное, не имеющее пользы: карел. шило-мыло ‘что-н. пустое, ненужное’: «Грибы-то почистил, да шило-мыло там осталось, гнилое всё» [СРГК 6: 858], н.-печор. шилье-мылье ‘ненужные, бесполезные вещи, хлам’: «– Митрофан, ты видывал-нет, како у соседей-то в избе баско? – Не древь давай, у них полна хата всякого шилья-мылья, ничё дельного-то нет» [ФСНП 2: 405]. Показательна также пословица, записанная у старообрядцев Литвы: «Кристалл взял – шильем-мыльем отдал», ср. комментарий носителя традиции: «Взял какую-то ценную вещь, а отдал тем-сем. Раньше кристалл говорили – пшеница как кристалл, как золото. Може, он взял семян, а отдал напополам с мякиной. Даже не отдал, а мыльем-шильем от-пихал – и так говорят» [ФСЛ: 423, № 1252]. Интересно и противопоставление шила и дела в арх. ни к шилу, ни к делу ‘не имеет отношения ни к чему, ни к селу ни к городу’ [АОС 10: 455]. Возможно, коннотация бесполезности у шила связана еще с таким свойством реалии, как его тонкость и, соответственно, малый размер прокалываемых отверстий, ср. оксюморонные выражения, где подчеркивается невозможность питаться при помощи шила: н.-печор. шильцем молоко хлебать ‘оставаться ни с чем, ничего не иметь’ [ФСНП 2: 405], прикам. хлебать шилом ‘жить очень бедно’, народ. хлебнуть (хватить, схватить) шилом патоки ‘многое испытать в жизни, перенести много трудностей’, сиб. шильцем хле- бать <молоко> ‘о запрете на употребление молока во время церковных постов’ [БСРП: 751].
Сочетания слов шило и мыло , шильный и мыльный используются для обозначения хитрых и скупых людей , ср. влг. шило да мыло ‘скупой человек’ [КСГРС], влг. шило-мыло ‘о хитром человеке’: «Шило-мыло значит хитрый очень. Хитрый, скользкой, как мыло» [там же], влг. шило да мыло , шильный-мыльный ‘о том, кто врет, хитрит’: «Шильный-мыльный – про бахвалов говорили, кто врет, шило да мыло, не связывайся с им» [там же]. Появление таких характеристик обусловлено не только развитием негативной семантики названных выше оборотов (вроде влг. от шильного до мыльного ‘о людях, не способных к труду, не любящих работать’, карел. шило-мыло ‘что-н. пустое, ненужное’ и др.), но и самостоятельным семантическим потенциалом каждого из компонентов этой пары. Так, коннотации шильного проясняются в ряду таких слов, как, например, без указ. места шильник ‘мошенник, обманщик, плут’ [Даль 4: 652], бурят. шúльник ‘то же’: «Шильник с корзиной ходил, продавал всякую мелочь. А по-нашему плут это» [СРГС 5: 343], без указ. места шильничать ‘мошенничать, «намек на плутовство шильника – мелкого торговца, мелочного плута»’ [Михельсон 2: 535], морд. шúльничать ‘вести развратный образ жизни’ [СРГМ 2: 1518], пск., твер. подшúльничать ‘гнусно лгать, наговаривать на кого-л.’ [СРНГ 28: 257]. Возможно, имеет значение также ассоциация «пронырливости», основанная на остроте инструмента – шила : яросл. шиловáтый ‘увертливый’ [ЯОС–Д 2: 366], простореч. шило в заднице ‘о непоседливом, чрезмерно активном человеке’ и др. Коннотативный фон мыла (в той его части, которая нас интересует) обнаруживают следующие лексические единицы: влг. мыло ‘о скупом человеке’ [СРНГ 19: 55], влг. мы́лица ‘врун, хитрец’ [КСГРС], влг. мылистой , мыльный ‘лживый, болтливый’ [там же], костр. мы́лить ‘лгать’ [ЛКТЭ], костр. обмы́лить ‘обмануть’: «Обмылила меня, провела» [там же] и др. Эти коннотации опираются главным образом на «скользкость» реалии.
Устойчивая связь шила и мыла подкрепляется не только бытийными и семантическими факторами, но и собственно языковой «техникой»: внутренней рифмой и фонетическим составом слов. Как говорилось выше, связки шило-мыло, шильце-мыльце являются примерами парных слов русского фольклора. Подобные парные сочетания полнозначных лексем обладают двумя фонетическими особенностями: их компоненты рифмуются друг с другом, и в большинстве случаев вторая часть пары начинается с губного со- гласного [Минлос 2004: 125–126]. В частности, пара шильце-мыльце встречается в репликах водящего в детских подвижных играх в Белозерском крае Вологодской области: «Бабушка-галанушка! / Продай уголок / За шильце, за мыльце, / За белое копыльце, / За зеркальцо!»; «Кумушка-кума, / Продай уголек / За шильце, за мыльце, / За зеркальце!» [ДКСБ: 102]; варианты этой игры (и игровые тексты с интересующими нас словами) встречаются и на других территориях (ср., к примеру, [http://rodnaya-tropinka.ru/ igry-na-svezhem-vozduhe/]).
В фольклорных текстах, подобных вышеприведенным, связка шило-мыло имеет как семантическое, так и (в первую очередь) формальное обоснование. Эта связка попадает в сферу действия редупликативной модели (распространенной в русском и других восточнославянских языках), в рамках которой образуются конструкции с начальными ш и м , ср. простореч. шуры-муры , а также ленингр. шáгом-мáхом ‘кое-как, не по порядку’ [СРГК 6: 818], мурман. шантúть-мантúть ‘о половых сношениях’ [там же: 831], волгоград. шатыль-мотыль , шах-мах ‘о безделье, бездельнике’ [СДГВО: 669], волгоград. шýшера-мýшера ‘мусор, отходы’ [там же: 680], арх. шúриться да мы́риться ‘возиться, копаться’ [КСГРС], яросл. шýни-мýни ‘рваная одежда, белье; обноски, тряпье; нехорошие дела, сделки’ [ЯОС 10: 82], яросл. шýpa-мýра ‘старье, рухлядь’ [там же], яросл. шкýнды-мýнды ‘рваная одежда, белье; обноски, тряпье’ [там же: 78], оренб. Ширну-мырну, где вымырну? (так кричат дети перед ныряньем) [Малеча 2: 458], примор. шурин-мурин , новг. шалаги-малаги , шило-мотовило , шитовило-мотовило (пара из восточнославянских загадок) [Минлос 2005: 104, 106, 108] и др. Как видим, все подобные слова и выражения экспрессивны по своей семантике, и эта экспрессия во многом вытекает из фонетического облика сочетаний.
***
Подведем итоги.
Как нам представляется, выражение менять шило на мыло не может рассматриваться изолированно от большой группы парных слов и фразеологических оборотов, в которых разными способами обыгрывается бином шило-мыло. Это языковое гнездо сформировалось в широком культурно-этнографическом контексте – в народной среде, для которой пара шило и мыло стала символом домашних бытовых забот и ремесленнических занятий, считающихся более легкими, чем крестьянский труд в поле. Важно и то, что шило и мыло были в лавках и магазинах основ- ными мелкими «промтоварами», которые не производились в натуральном хозяйстве. Вот эти «мелочность» и «легкость» способствовали формированию коннотаций чего-то незначимого, пустого. Кроме того, у каждого из элементов бинома есть собственные негативные коннотации, которые базируются на свойствах реалий. В процессе номинации значимыми оказываются «скользкость» мыла, его способность быстро «измыливаться», исчезать, его «происхождение» (на мыло шли животные жиры, в том числе падаль). Что касается шила, то его коннотативный фон основан на признаках «пронырливости» и малой ценности; есть негативные ассоциации и у слова шильник ‘торговец мелкими товарами’ → ‘плут, мошенник’. Коннотации шила и мыла в ряде случаев звучат в унисон друг другу.
Бытийная смежность реалий и сходство смысловых ассоциаций двух слов поддерживаются формальной близостью лексем, создаваемой как рифмующимися конечными компонентами, так и включенностью начальных ш и м в распространенную модель редупликативного словообразования. Все эти факторы цементируют изучаемый бином и способствуют его популярности, «фольклоризации» (он употребляется в свадебном фольклоре, в игровых припевках), а также семантической вариативности: с помощью данного бинома осваиваются разные области вторичных значений (значение бесполезности, ненужности, хитрости, изворотливости и др.). Элементы этой пары вступают в различные отношения друг с другом – то объединяются в одно слово ( шилье-мылье ), то оказываются связанными сочинительным союзом да ( шилье да мылье ), то допускают включение в конструкции предикатов, в числе которых глаголы перевести ( свести ) и менять ( променять ). Появление предикатов привносит в образовавшиеся конструкции семантику глагольного компонента и обеспечивает вхождение полученных оборотов в две фразеологические модели, существующие в народной речи: с одной стороны, выражения с глаголами перевести и свести , означающие безрезультатный труд и напрасные усилия ( свесть на мыльный пузырь ), с другой стороны, идиомы с глаголами менять , променять , означающие бессмысленный и неравноценный обмен ( променять бы́ка на инды́ка ). При этом выражения с глаголом свести ( перевести ), возможно, хронологически появились раньше, чем обороты с «обменной» семантикой. Что касается оборотов типа выменять шило на свайку , то для них можно допустить параллельное или позднейшее образование.
Примечания
-
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ «Контактные и генетические связи севернорусской лексики и ономастики» (проект 17-18-01351).
-
2 Здесь и далее контексты из художественной литературы извлечены из [НКРЯ]; они даются без указания на источник.
-
3 Впрочем, не всегда такая угроза была шутливой, ср.: «Может быть, в Париже немцы, увидев его длинный нос, арестовали его и, как Георгий Иванов говорил мне со спокойным отвращением, “сварили его на мыло”» <В. Смоленский. Воспоминания (1955)>. Возможно, переосмыслению фразеологизма способствовали легенды о фашистских опытах над узниками лагерей. Вдруг не случаен тот факт, что выражения типа «Судью на мыло» фиксируются (по данным [НКРЯ]) только после Второй мировой войны?
-
4 Парными словами называют синтаксически и семантически слитные сочетания вроде поить-кормить , золото-серебро , сильный-могучий , характерные, в частности, для русского фольклора [Минлос 2005: 96]; наряду с собственно парными словами ( хитра-мудра ) рассматривается и сочинительная реализация тех же парных сочетаний ( хитрый да мудрый ) [там же].
MENYAT’ SHILO NA MYLO
Elena L. Berezovich
Professor in the Department of Russian Language, General Linguistics and Verbal Communication Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin
ResearcherID: A-3337-2016
Valeriya S. Kuchko
ResearcherID: R-6809-2016
The article refers to the idiom
menyat’ (smenyat’) shilo na mylo
Список литературы Менять шило на мыло: диалектологический комментарий к фразеологизму
- Березович Е. Л. Садиться не в свои сани: этнолингв. коммент. к фразеологизму//Slavica Svetlanica. Язык и картина мира: К юбилею С. М. Толстой. М.: Индрик, 2013. С. 169-178.
- Березович Е. Л. Русская лексика на общеславянском фоне: семантико-мотивационная реконструкция. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2014. 488 с.
- Бормотова К. А., Малькова Я. В. Образы божественной и нечистой силы во фразеологии вологодско-костромского пограничья//Живая старина. 2016. № 2. С. 46-49.
- Гура А. В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика. М: Индрик, 2012. 936 с.
- Минлос Ф. Р. Редупликация и парные слова в восточнославянских языках: дис. канд. филол. наук. М., 2004. 183 с.
- Минлос Ф. Р. Рифмованные сочетания в русском фольклоре. Редупликация и парные слова//Русский язык в научном освещении. 2005. № 1. С. 96-115.
- Михельсон М. И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии: Сборник образных слов и иносказаний: в 2 т. СПб., 19011902.
- Мокиенко В. М. Славянская фразеология: учеб. пособие. М.: Высшая школа, 1980. 207 с.
- Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Русская фразеология. Историко-этимологический словарь. СПб.: Фолио-Пресс, 1998. 700 с.
- Соломеина Д. С. Этимолого-словообразова-тельное гнездо глагола шить в русском языке: дис. магистра филол. наук. Екатеринбург, 2014. 100 с.
- Мелерович А. М., Мокиенко В. М. Фразеологизмы в русской речи. Словарь. М.: Русские словари, 1997. 864 с.