Ментальные основания архаизации современной российской культуры и "выбросов архаики вверх"
Автор: Вешнинский Юрий Григорьевич
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Социокультурные исследования
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
Анализируются ментальные основания архаизации современной российской культуры. Предлагается характеристика важной составляющей этого явления - «выброс архаики вверх». Делается попытка найти основания этих явлений в особенностях традиционной российской ментальности.
Архаизация, антиинтеллектуализм, провал в архаику, "выброс архаики вверх", десапиентация
Короткий адрес: https://sciup.org/142216619
IDR: 142216619
Текст научной статьи Ментальные основания архаизации современной российской культуры и "выбросов архаики вверх"
Предлагаемый текст получился у меня, возможно, излишне публицистичным. Но уж очень драматичным представляется мне его нынешний идейный и социальный контекст. Я привожу довольно много цитат из текстов, опубликованных, зачастую, довольно давно. Одной из причин этого является несколько неожиданное для меня самого актуализация и, если угодно, «воскресение» в нашей общественной и культурной жизни последних лет многого из того, что в начале 1990-х годов казалось прочно ушедшим в прошлое. Порой мне кажется, что у нас в очередной раз, как в «Страшной мести» у Н. В. Гоголя, мертвецы встают из гробов.
Хочется процитировать слова из книги Игоря Вадимовича Кондакова: «Культурология: история культуры России». Курс лекций. Он отмечал наличие в культуре России как глобалистских, так и антиглобалистских тенденций: «Можно сказать, что российский «антиглобализм» заложен едва ли не в ментальные основания российской цивилизации, в менталитет русского народа. Идея «своего», особого исторического пути, отличного от европейского. Социальное и культурное «охранение», т. е. стремление любой ценой сохранить своё национально-культурное своеобразие и многообразие, в том числе и то, которым не подобало бы хвалиться, нередко чреватое отсталостью, дикостью (крепостное право, крестьянская община, «русский социализм», «коллективизация», российский неустроенный быт и неразвитое коммунальное хозяйство и пр.). Обоснование исключительного национально-культурного своеобразия, противостоящего европейскому рационализму и прагматизму и основанного на душевной теплоте, сердечности, отзывчивости. Противопоставление русской «соборности», коллективности западноевропейскому индивидуализму и эгоизму; российского бескорыстия, энтузиазма, нерасчётливости и широты — западному корыстолюбию, буржуазному частному предпринимательству, рынку, царству «чистогана», отношениям «купли-продажи». Подобные примеры идейной и мировоззренческой конфронтации России «развитым» мировым державам и раньше, и сегодня видятся именно в одном контексте со всеми антиглобалистскими выступлениями в современном мире ». (1, с. 564).
Стоит отметить, что ещё сравнительно недавно, обсуждая эту проблематику, можно было соблюдать значительную степень академической и психологической остранённости, которую сегодня, по-моему, соблюдать всё труднее. В последнее время эти, вроде бы, сравнительно безобидные явления стали буквально кровоточить. В 2010 году в своей кандидатской диссертации я отмечал, что, по данным моих опросов, «относительно единое в прошлом пространство бывшего СССР (унаследовавшее совпадавшее с ним по многим азимутам пространство Российской Империи), перестав быть политикоюридической реальностью, остаётся (и долго ещё будет оставаться) для многих его жителей (в особенности — для россиян и, едва ли не в первую очередь, для москвичей) реальностью социально-психологической и культурной в качестве от- носительно единого постсоветского культурного пространства. Так в сказке Льюиса Кэррола улыбка чеширского кота продолжает существовать и без кота» (2, с. 93).
И тогда я не стал особенно углубляться в эту проблематику. Я явно не представлял себе в достаточной степени, в какой жуткий «евразийский оскал» может превратиться эта «улыбка чеширского кота» спустя совсем немного лет. Ведь сейчас всё это явно обыгрывается в использующей стереотипы отечественного массового сознания современной политической пропаганде. А также и в льстящей многочисленным у нас носителям имперской ностальгии иллюзорной практике некоего нового «собирания земель» вроде бы уже исчезнувшей империи. Кстати, все ли заметили, что с недавних пор агентство ИТАР-ТАСС снова (по названию официально, вроде бы, уже не существующего Советского Союза) именуется ТАСС?
Наиболее откровенно об этом высказался Л. Поляков, поставленный властью направлять формирование «образа счастливой истории», «образ оптимистической истории» в школьных учебниках. «Я вижу цель преподавания в школе, прежде чем я буду говорить о результатах, в том, чтобы изучать историю не для того, чтобы её помнить, а для того, чтобы забывать. Я повторю это. Цель изучения истории в школе — не память, а забвение» (3, с. 12).
Цинизм этой позиции, если слово «позиция» подходит к высказываниям Л. Полякова, представляет собой вульгаризо-ваннный вариант легенды о Великом Инквизиторе Достоевского, не претендующий, правда, на убедительность. Но в целом нельзя не признать экстравагантности зигзагов российской интеллигенции, возгласившей некогда «Никто не забыт, ничто не забыто!», читавшей айтматовский роман о манкуртах и кончившей тихим приспособлением к новой власти…» (цит. по: 4, с. 499).
Это сопровождается безудержной идеализацией русской реакционно-шовинистической и «охранительной» религиозно-философской, литературной и культурной традиции. Многие идеи, сформулированные в прошлом (и, в частности, в годы «оттепели» и, особенно, — в годы перестройки) кажутся прочно забытыми в нашем сегодняшнем «идейном мейнстриме». Кажется, что большинством населения страны овладела потребность в «бегстве от свободы». Похоже, что, подобно героям рязановского фильма «Вокзал для двоих», наши люди на- перегонки спешат прибежать в лагерь, боясь опоздать на перекличку.
В этой связи хочется приглядеться к историко-культурным корням этих явлений. Они, несомненно, коренятся в некоторых особенностях преобладающей у наших людей до сих пор традиционной ментальности. И стоит вспомнить, в частности, многие идеи одного из моих научных учителей, Александра Самойловича Ахиезера, сформулированные в его основной книге «Россия: критика исторического опыта» и в других его трудах. Ему, в частности, принадлежит замечательная формулировка: «В культуре России преобладает не стремление к преодолению дезорганизации, а стремление адаптироваться к дезорганизованности как к норме» . Cегодня у нас, особенно — в официально-публичной сфере, сама по себе критика (т. е. — анализ!) тех или иных явлений отечественной истории и культуры всё чаще воспринимается как враждебный выпад, как проявление антипатриотизма и русофобии. И в первую очередь это относится к критике тех тенденций в русской литературе и культуре прошлого и настоящего, которые, на мой взгляд, можно с полным основанием охарактеризовать как реакционные и шовинистические. На наших глазах возрождаются наиболее одиозные идейные течения дореволюционного прошлого, которые самым циничным образом «скрещиваются» с памятной людям моего поколения позднесталинской «борьбой с низкопоклонством перед Западом».
В своё время (в 1990-х годах) это казалось ещё не предопределённым. Предполагалось, что в России возможен отход от традиционной для страны бинарной модели восприятия мира. Предполагался переход к более свойственной западным обществам тернарной модели (5, с. 257-270 и др.). И для этого, казалось, были основания. Шёл, всё-таки, процесс постижения и усвоения более сложных картин мира. Хотя уже тогда наблюдалось и немало проявлений антиинтеллектуализма , ещё в советские времена свившего себе немало уютных гнёзд в нашем обществе вообще, и, к сожалению, в нашей науке — в частности. Сейчас же, к сожалению, у большей части населения произошло резкое упрощение картины мира и положения России в этом мире. Всё свелось к примитивной оппозиции: «свой-чужой». Об этом говорят и результаты социологических опросов последних лет. Кстати, Юрий Александрович Левада в последние годы жизни говорил, что он сам и его ученики в начале перестройки не предполагали, что в качестве доминирующего у нас социального типажа на смену «советскому человеку» придёт человек даже не «досоветский», а почти допетровский, архаический. Именно происшедший на большей части постсоветского пространства массовый провал в архаику (и то, что я предлагаю называть выбросом архаики вверх ) оказались самым неожиданными для многих (и для меня тоже) итогами перестройки. Похоже, что одним из немногих, кто это, вроде бы, предвидел, оказался В. Н. Войнович в своём романе-антиутопии «Москва 2042». Надо сказать, что проблематика архаизации современной культуры как глобального явления уже получала отражение в отечественных исследованиях (6 и др.).
Одним из признаков этой архаизации и «выброса архаики вверх» является, по-моему, возрождение у нас (в XXI веке!) такого анахронизма, как придворное искусство и придворная культура . При этом следует отметить глубокий провинциализм стилистики этого искусства, находящий своё наглядное выражение, например, в «неоимперском стиле» большинства новейших московских монументов.
Для наглядности я решил проиллюстрировать некоторые положения моего текста моими студенческими рисунками. Мне кажется, что язык визуальных образов способен выразить идеи в особенно общедоступном виде.
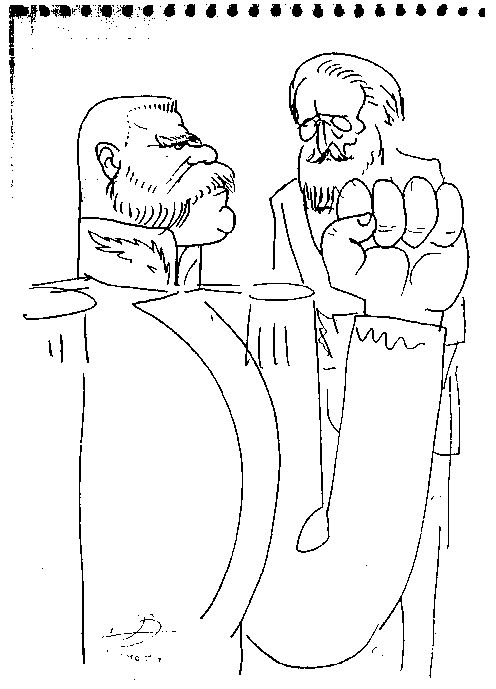
Этот мой рисунок уже более, чем полувековой давности. На мой (и не только на мой) взгляд, он до сих пор наглядно характеризует отношения власти и культуры в России. Он пользовался успехом в тот год, когда началось «реформирование» РАН.
Ещё в конце XIX века Эмиль Дюркгейм писал о принудительной силе «коллективных преставлений» в социальной жизни людей: «Совокупность убеждений и настроений, знакомых рядовым членам общества, формирует детерминированную систему, живущую собственной жизнью. Её можно назвать коллективным или общим сознанием» (7, P. 108).
И у нас, например, Ольга Михайловна Фрейденберг отмечала неубедительность для носителей низкой, примитивной, архаической культуры эмпирического опыта и прямого наблюдения по сравнению с готовыми, вековыми умственными схемами. Стоит прочитать, в этой связи, например, публикацию текста из архива О. М. Фрейденберг (8, с. 6).
Надо сказать, что для большинства наших людей почти всегда было характерно, как это порой называют, «недорациона-лизированное» сознание. Они в разные времена не отличались высоким уровнем рациональности и реализма в оценках различных явлений жизни (особенно — общественной). Не случайно, видимо, и многие явления русской философии часто называли «философией сердца». О русском инфантилизме, о том, что моделью русского национального характера является психология подростка, что многие русские доживают до старости так и не повзрослев, писал и Зигмунд Фрейд. Эти соображения развивали и некоторые отечественные авторы (Леонид Александрович Седов и др.).
Хочу поделиться давним рассказом моего первого учителя в науке Леонида Борисовича Когана о том, как где-то в начале 1980-х годов редактор не дал ему процитировать письмо Ф. Энгельса Г. В. Плеханову. Предыстория этого письма такова. Если я не ошибаюсь, в своё время Г. В. Плеханов переслал Ф. Энгельсу книгу В. В. Берви-Флеровского «Положение рабочего класса в России» (1869 г.), написанную по материалам его собственных исследований и сибирских впечатлений, понравившуюся ранее и Карлу Марксу и, как принято считать, на самом деле ставшую вехой в истории российской социологии. Ф. Энгельсу эта книга тоже понравилась, тем более, что в молодости он сам написал исследование «Положение рабочего класса в Англии», которое сегодня не без оснований считается первым в мировой науке эмпирическим урбанологическим исследованием вообще. Но В. В. Берви-Флеровский был человеком не без странностей и чудачеств. Он до конца жизни верил в то, что всё вещество (даже неодушевлённое) мыслит. Как я где-то прочитал, он даже создал объединение сторонников своей «философии мыслящего вещества». И он ухитрился «воткнуть» эту свою философию «мыслящего вещества» даже в свою книгу «Положение рабочего класса в России», хотя это и было, на мой взгляд, совсем не по теме.
И вот, в тексте, посвящённом проблемам городов, Л. Б. Коган решил процитировать слова Ф. Энгельса из его письма Г. В. Плеханову от 26 февраля 1895 года. Это был последний год жизни Ф. Энгельса. И в этом письме были такие слова: «… в такой стране, как ваша, где современная крупная промышленность привита к первобытной крестьянской общине и одновременно представлены все промежуточные стадии цивилизации, в стране, к тому же в интеллектуальном отношении окружённой более или менее эффективной китайской стеной, которая возведена деспотизмом, не приходится удивляться возникновению самых невероятных и причудливых сочетаний идей. Возьмите хотя бы беднягу Флеровского, который воображает, что столы и кровати мыслят, но не имеют памяти. Это стадия, через которую страна должна пройти. Постепенно, с ростом городов изолированность талантливых людей исчезнет, а с ней исчезнут и эти идейные заблуждения, вызванные одиночеством, бессистемностью случайных знаний этих чудаков-мыслителей…» (9, с. 344).
И Л. Б. Коган, от которого я узнал об этом замечательном тексте, до сих пор остающемся малоизвестным даже в научной среде, рассказывал мне, что, где-то в начале 1980-х годов (если не раньше) он принёс в редакцию свой текст, посвящённый проблемам городов, с этой цитатой. Кстати, я недавно узнал, что это была вообще его любимая цитата! И, дойдя до этого места, редактор (а редакторы тогда, так же, как и сейчас, впрочем, были по совместительству и цензорами) сказал ему: «Не надо!» — Почему «не надо?», — спросил Л. Б. Коган, это же из письма Энгельса Плеханову? «Я понимаю, что это из письма Энгельса Плеханову» — сказал редактор — И ещё раз повторил: «Не надо! Это вызывает нежелательные ассоциации!» Уж очень то, что Ф. Энгельс писал о России рубежа царствований Александра III и Николая II, было похоже на Советский Союз спустя почти сто лет! Да и сейчас это, к сожалению, не устарело! Причём, если Ф. Энгельс более ста лет тому назад считал, что эти особенности российской ментальности будут со временем изживаться, то сейчас можно видеть, что они у нас воспроизводятся вновь и вновь! Цитату пришлось выбросить, и, как я недавно убедился, её ещё недавно не знали даже многие наши авторитетнейшие специалисты по градоведческой проблематике.
А ведь этот текст был опубликован Г. В. Плехановым на не- мецком языке ещё в 90-х годах XIX века. На русском языке он был опубликован уже в СССР в 1920-х годах. Вошёл в оба собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (и в довоенное, и в послевоенное). Последнее давно стоит в «Ленинке» (ныне — РГБ) в открытом доступе). Неоднократно публиковалось это письмо и в сборниках переписки классиков марксизма. Но его почти никто не знает до сих пор! И этот текст и до самых недавних пор был почти неизвестен большинству известных мне российских экономгеографов и урбанологов. А те немногие из них, которые его знают, в своём большинстве узнали его недавно от меня. И получается, что, произнесенное ещё в доперестроечные годы редакторское «не надо» до сих пор эхом отзывается в нашей общественной мысли, и эта «более или менее эффективная китайская стена» в значительной степени окружает нашу интеллектуальную жизнь и до сих пор. И по прочности, похоже, она не уступает материальной Великой китайской стене. Впрочем, как совершенно верно сказал один из моих коллег, духовные стены — самые прочные и долговечные. И ведь наше общество и до сих пор (уже и в новом тысячелетии) остаётся во многом «недоурбанизированным», а значит и «недо-цивилизованным».
Кстати, совсем недавно один мой знакомый «на полном се-рьёзе» убеждал меня в том, что «нам» не нужна «их» логика и «их» диалектика. Ведь у «нас», по его мнению, есть своя, самобытная логика и своя ТРИАЛЕКТИКА ! Вот так! И я, услышав про ТРИАЛЕКТИКУ , сразу вспомнил про «мыслящие столы и кровати» В. В. Берви-Флеровского. А ведь эти «странные и причудливые сочетания идей» были, в той или иной степени, свойственны и Н. Ф. Фёдорову, и К. Э. Циолковскому, и ещё очень и очень многим отечественным мыслителям разных эпох и течений! Много интересного на эту тему можно прочитать в произведениях А. П. Платонова, который сам в молодости прошёл через утопические увлечения и очень хорошо чувствовал специфику русского народного утопического сознания.
И когда, совсем недавно, я этому своему знакомому, сказав: «кстати, о триалектике», пересказал по памяти приведённый выше отрывок из письма Энгельса Плеханову, то, как выяснилось, я его не переубедил! Он сказал, что Маркс и Энгельс не любили Россию (что, в общем-то, не было такой уж неправдой, но для него именно это было, пожалуй, единственно важным!), но, что самое главное, он так и остался при этой своей ТРИА-ЛЕКТИКЕ ! А в ходе дальнейшего разговора выяснилось, что он считает глобализацию идущей по некоему плану и являющейся результатом чуть ли не мирового еврейского заговора! И что не надо путать «плохой» (гитлеровский) нацизм и «хороший» (русский) нацизм. Так я лишний раз убедился в том, что ТРИАЛЕКТИКА (а я предлагаю называть этим обобщающим именем целый класс социокультурных явлений) — вещь совсем не такая уж безобидная, как многим поклонникам нашей «духовности» (удивительным образом постоянно соединяющейся у нас с «державностью»!) и неиссякаемой «самобытности», может быть, кажется!
Как я узнал сравнительно недавно, очень ярко и убедительно о специфике русской ментальности даже в Серебряном веке, сказано в дневниковой записи французского посла в России Мориса Палеолога от 28 декабря 1915 года (более ста лет тому назад!): «За те почти два года, что я живу в Петрограде, одна черта поражала меня чаще всего при разговоре с политическими деятелями, с военными, со светскими людьми, с должностными лицами, журналистами, промышленниками, финансистами, профессорами: это неопределённый, подвижной, бессодержательный характер их воззрений и проектов. В них всегда какой-нибудь недостаток равновесия или цельности; расчёты приблизительны, построения смутны и неопределённы. Сколько несчастий и ошибочных расчётов в этой войне объясняется тем, что русские видят действительность только сквозь дымку мечтательности и не имеют точного представления ни о пространстве, ни о времени» (цит. по: 10, с. 77).
Позже об отсутствии у большинства русских чувства реальности говорил и писал выдающийся русский физиолог и первый русский Нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов в своих прочитанных весной 1918 года лекциях «Об уме вообще, о русском уме в частности» (11 и др.).
Уже в конце XX века Григорий Абрамович Гольц писал: «…слово «правда» в российском обиходе не воспринимается как антоним слову «ложь». В мифологическом сознании народа правда — это некая смысловая структура, которой следует придерживаться. Поэтому печатный листок петровского времени, названный «Правда воли монаршей», воспринимался вполне адекватно, как, впрочем, через много лет и газета «Правда», которую по аналогии можно было бы назвать «Правда воли большевиков ».
В обществе возникает и устойчиво передаётся своеобразный страх перед реальностью, ибо сознанию нужна постоянная сказка, приятная жвачка, к которой с детства и до старости привыкли все» (цит. по: 12, с. 131-132, и 13, с. 198-125).
Но это делает почти невозможным и развитие науки. Я уже писал где-то, что в советское время у нас была государственная наука и катакомбная церковь, а теперь у нас — государственная церковь и катакомбная наука . «Снимается», а точнее — табуируется, и проблематика отсталости России, о чём многие десятилетия и даже века размышляли самые сильные умы страны. О какой отсталости может идти речь, если «мы идём своим, особым путём»?
И уже сравнительно недавно, в связи с событиями последнего времени, я прочитал чьё-то изречение: «Ребёнок до трёх лет, ударившись о скамейку, думает, что в этом виновата скамейка. После трёх лет он начинает понимать, что виноват он сам. Но многие русские обладают удивительным свойством доживать до старости в уверенности, что во всём виновата скамейка»!
Смогут ли наши люди после неизбежного, на мой взгляд, отрезвления или «выхода из транса» по формулировке Г. С. Померанца (14) снова достаточно быстро и успешно «усложниться»? Это — вопрос! Ведь «упрощаться» всегда легче, чем «усложняться». И культурные ресурсы, необходимые для этого «усложнения», на мой взгляд, истощаются на глазах. Падает общий уровень гуманитарной культуры даже у людей с формально высшим образованием и с учёными степенями. Чтение качественной литературы, знание образцов «авторской» культуры всё больше «выходят из моды». На первый план (особенно у нас) выходят приоритеты «выживания» и «адаптации к дезорганизованности как к норме».
Как я уже писал ранее, процесс десапиентации носит в современном мире глобальный характер. Но не рискуем ли мы сейчас именно в этом процессе вырваться вперёд? Ведь на Западе прямого и открытого отказа от «своей» рационалистической культурной традиции и от «западных ценностей», на мой взгляд, всё-таки нет. А у нас сейчас почти во всех СМИ (и особенно — почти по всем каналам телевидения) можно наблюдать откровенное глумление над гуманистическим наследием европейской (и вообще — западной) цивилизации. Идет отторжение от западной цивилизации именно как от целого. И, фактически, от лучшей части наследия «Петербургского периода»
русской культуры — тоже. Антиевропеизм и антиамериканизм в самых грубых и откровенных формах стали у нас сегодня «признаком хорошего тона». И этого не стесняются многие известные деятели литературы, культуры и искусства, люди с учёными степенями и званиями. А что будет с нами всеми потом?
Следует, на мой взгляд, особо отметить, что модный ныне упор на «жёсткую силу» (в ущерб «мягкой силе») чаще всего приводит к отрицательным результатам именно с точки зрения подлинных, а не мнимых, национальных интересов. Именно с точки зрения подлинного, а не декларативно-пропагандистски трактуемого «русского мира», он совершенно не продуктивен. Агрессивный шовинизм приводит к тому, что этот подлинный «русский мир» катастрофически сужается подобно шагреневой коже. Из него практически «выдавливаются» наиболее перспективные и динамичные компоненты (например, — русскоязычная часть населения Израиля, или русскоязычная диаспора в «силиконовой долине» в Калифорнии). Живущие ещё в стране «русские европейцы» всё чаще оказываются в роли шельмуемой «пятой колонны» или «иностранных агентов». И до чего же мы дожили, если у нас в число «иностранных агентов» попали «Мемориал» и «Левада-центр»!
И ничего равноценного взамен, по-моему, не видно. Уж, во всяком случае, всё новые непризнанные мировым сообществом государства ничего реально полезного для подлинного «русского мира» и его культуры принести не могут. С культурным единством «славянского мира» в целом дела теперь, по-моему, обстоят совсем плохо. Особенно, если говорить о культурном единстве с той его частью, которая конфессионально тяготеет к католицизму. Кстати, как показывают результаты эмпирических исследований, у нас царит не подлинная религиозность, а обрядоверие . Едва ли не большинство наших, вроде бы, верующих, верит вовсе не в Бога, а в крашеные яйца, в освящённые куличи, в чудотворные иконы, и, конечно, — в подлинность «Протоколов сионских мудрецов».
Как писал уже цитировавшийся И. В. Кондаков,: «На фоне напряжённого противостояния прототалитарных и антитоталитарных сил в постсоветском российском обществе нарастает неполитическая ностальгия по «старым добрым советским временам» и ещё более глубокая архаическая тяга к доисторической унитарной целостности страны (не только дореволюционного, но даже и допетровского времени), с её апологией самодержавия, православия, народности, национальной однородности и культурной замкнутости. Многие из упомянутых здесь национально-культурных комплексов носят в обществе, разумеется, коллективно-бессознательный характер.
Цивилизационное «распутье», на которое вышла посттоталитарная Россия на рубеже XX-XXI веков, не менее опасное и грозное, чем период Смутного времени на рубеже XVI-XVII веков или период русской революции (1905-1907; 1917-1922)» (1, с. 553).
И «союзные», и вроде бы дружественные, постсоветские государства всё чаще реально дистанцируются от деградирующей и «дичающей» России (в том числе и от её культуры) всё больше. Последний наглядный пример — заявленный недавно переход с кириллицы на латиницу в Казахстане. Боюсь, что у нас многие даже не осознают тревожного именно для судеб русской культуры в так называемом «ближнем зарубежье» смысла этой новости. И резонанса в наших СМИ по этому поводу не предвидится.
В этой связи стоило бы, по-моему, задуматься над сильной суицидальной составляющей в русской культуре, которая время от времени выходит на поверхность. При этом это может проявляться не только в унынии и пессимизме (по поводу которого А. П. Чехов писал, что «русский человек не любит жить»), но и в некоем «гибельном восторге» (по В. Высоцкому). Можно, по-моему, говорить сегодня о своеобразном культе смерти, проявляющемся в ряде произведений современной отечественной и массовой, и формально, вроде бы, «элитарной» культуры.
Мне уже приходилось размышлять над смыслом этих явлений в общемировом контексте (в частности, — под влиянием общения с покойным Георгием Степановичем Кнабе и чтения его научных трудов). Он уже давно высказывал пессимистические прогнозы по поводу судьбы европейской цивилизации в целом. Зимой 2010-2011 годов, после возбудившего у меня несколько преувеличенные надежды снятия Ю. М. Лужкова и начала протестной волны, я вступил с Г. С. Кнабе в переписку, выслав ему очень понравившееся мне стихотворение Александра Городницкого «Этот город», которое тот прочитал на митинге против строительства Охта-центра. Это моё письмо вызвало у Г. С. Кнабе неожиданную для меня прохладную реакцию и его упрёки в мой адрес в излишнем идеализме и в необоснованном оптимизме. Я тогда только начинал осознавать всю глубину пессимизма Г. С. Кнабе по отношению к тому, что он назвал «антигуманным движением современной цивилизации».
В ходе завязавшейся интернет-дискусии и, главным образом, уже после неё, я стал постепенно понимать глобальный характер тех негативных процессов, которые казались мне связанными почти исключительно с нашими отечественными реалиями. Наиболее полно содержание этой интернет-дискусии было мной изложено в докладе «Философско-культурологические аспекты моей интернет-дискуссии с ныне покойным Г. С. Кнабе о некоторых проблемах современной цивилизации зимой 2011-2012 годов» на VI Российском философском конгрессе «Философия в современном мире: диалог мировоззрений», состоявшемся в Нижнем Новгороде 27-30 июля 2011 года. Тезисы этого доклада опубликованы в сборнике материалов конгресса, хотя эти тезисы, на мой взгляд, и недостаточно информативны. А полный текст этого моего доклада не опубликован, к сожалению, до сих пор.
Уже после завершения интернет-дискуссии, я пришёл к заключению, что Г. С. Кнабе был ближе к истине, чем мне казалось в её начале. Он был не только старше, но и мудрее меня. Особенно сильное впечатление на меня произвело чтение последней уже посмертно вышедшей книги Г. С. Кнабе «Европа с римским наследием и без него», опубликованная в 2011 году. Думаю, что для полного осмысления содержания этой книги мы все ещё должны созреть. Там его весьма пессимистические воззрения на судьбы европейской цивилизации были выражены, как представляется мне, с наибольшей полнотой.
Г. С. Кнабе справедливо отмечал, что европейское общество «действительно становится другим, т. е. утрачивающим esprit europeen как силу, сплачивающей Европу такой, какой она была, т. е. способной к единству движения и сохранения, к преемственности, к тому, чтобы быть и оставаться верной себе и в то же время становиться иной» (15, с. 188). На утрату современными жителями Европы esprit europeen, т. е. европейской идентичности и европейского патриотизма Г. С. Кнабе указывал в своей последней книге неоднократно. Но вернёмся к нашей ситуации. Стоит, по-моему, воспроизвести примеры из отечественной жизненной практики, приведённые в той же книге Г. С. Кнабе:
«По выборочным данным, от 80 до 90 процентов выпускников московских вузов работают после выпуска не по специальности, т. е. не знают непосредственного и повседневноличного переживания исторических ценностей культуры, усвоенных (или, во всяком случае, преподанных им) во время обучения.
Подавляющее большинство вузовских преподавателей принимают и положительно оценивают интернетовские материалы, предъявляемые студентами в качестве своих зачётных и исследовательских работ, независимо от того, в какой мере отразилось в них личное освоение анализируемого материала» (15, с. 163).
И далее: «Исчезновение в России интеллигенции как части социальной и духовной структуры общества означает исчезновение того пласта культуры и социальной психологии, в котором и осуществлялось освоение заимствованного и/или наследованного опыта и превращение его в личный опыт и в стимул общественного поведения» (15, с. 163).
Это не может не порождать у многих ощущение тупика. Не случайно, что последние (уже 25-е по счёту) «Банные чтения», традиционно организуемые «Новым литературным обозрением» и проходившие 31 марта — 1 апреля в Мемориале были названы: «Время назад. Реинтерпретация истории и кризис воображения будущего». Как отмечала ещё до их начала в программе «Особое мнение» на «Эхе Москвы» Ирина Дмитриевна Прохорова, там как раз говорилось о том, что «мы углубились бесконечно в прошлое. А будущего у нас как бы нет. Концепции будущего и горизонта будущего не просматривается. Но общество не может жить без образа будущего. Причём как-то внятного и более-менее оптимистичного». И по её мнению, последние события у нас в стране показали, что молодёжь это безумно тревожит. Хотя, надо отметить, что кризис образа будущего начался у нас давно. Если память мне не изменяет, по мнению покойного Бориса Владимировича Дубина, это нача- лось ещё на исходе «оттепели». И мне кажется, что даже в моей студенческой графике ещё «оттепельных» лет этот кризис образа будущего уже просматривался.
Мой студенческий рисунок 1964 года.
Не предвидел ли я ещё тогда наше, может быть, уже близкое будущее?
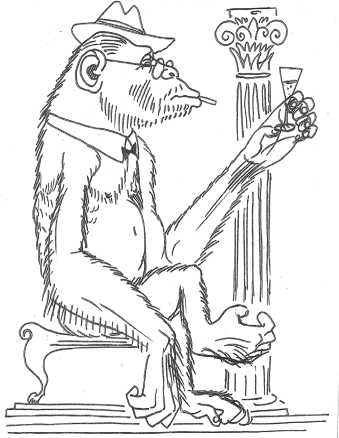
Всё это может, конечно, восприниматься как слишком мрачное вИдение нашей нынешней социокультурной ситуации. Но мне кажется, что самое главное сегодня — не утешительные иллюзии (которым я сам долгие годы отдавал дань), а интеллектуальное мужество и способность трезво видеть и оценивать реальность. Иначе мы так и не поймём, что и почему с нами происходит.
Список литературы Ментальные основания архаизации современной российской культуры и "выбросов архаики вверх"
- Кондаков И. В. Культурология: история культуры России. Курс лекций. М., ИКФ Омега-Л, Высш. Шк. 2003.
- Вешнинский Ю. Г. Аксиология постсоветского культурного пространства на рубеже тысячелетий. Диссертация на соискание учёной степени кандидата культурологии. М., ГАСК, 2010.
- Поляков Л. Выступление на немецко-российском коллоквиуме «Настоящее прошлого: как обходиться с историей и памятью», организованном фондом Фридриха Науманна «Fur die Freihein». М., 19-20 июня 2008. Материалы подготовлены специально для заседания Петербургского диалога 2008 г. В Санкт-Петербурге. М., 2008.
- Гудков Л. Д. Абортивная модернизация. -М., Российская политическая энциклопедия (РОССПЭн), 2011.
- Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., «Гнозис», Издательская группа «Прогресс», 1992.
- Штомпель Л. А., Штомпель О. М. «Архаизация современной культуры: необходимость или случайность?» -«Ценности и смыслы», № 1 (4), 2010.
- Explorations in Classical Sosiological Theore: Seeing the Social World. -Pine Forge Press.
- Фрейденберг О. «Семантика первой вещи». -«Декоративное Искусство СССР», № 12 (229), 1976.
- К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. второе, т. 39.
- Мальков В. «Россия и мир, 1914-1918 (Пространство времени в воспоминаниях, дневниках и письмах)». «Знание-сила», № 1, 2015.
- Павлов И. П. Об уме вообще, о русском уме в частности (все три лекции). -«Физиологический журнал им. И. М. Сеченова», № 9, 1999.
- Гольц Г. А. Гипертрофированный страх перед реальностью в российском обществе: Запись круглого стола «Специфика России как научная проблема» (Окончание), организованного в рамках независимого теоретического семинара «Социокультурная методология анализа российского общества»//Рубежи, 1997, № 3.
- Вешнинский Ю. Г. «Социокультурная топография Москва: от 1970-х к 1990-м». -В кн. «Москва и «московский текст» русской культуры». Сборник статей. Под ред. Г. С. Кнабе. М, РГГУ, 1998.
- Померанц Г. С. Выход из транса. -Юрист, 1995.
- Кнабе Г. С. «Европа с римским наследием и без него», «Нестор -история», Санкт-Петербург, 2011.
- Афанасьева В. В. Пять признаков тяжелой болезни российского образования, -Вывешено в интернете. 2017.


