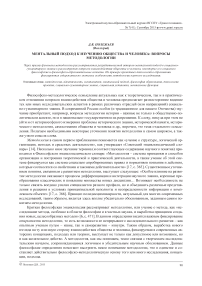Ментальный подход к изучению общества и человека: вопросы методологии
Автор: Полежаев Дмитрий Владимирович
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Человек культуры: новый смыслы образования (посвящается 85-летию академика РАО Е.В. Бондаревской)
Статья в выпуске: 7 (41), 2015 года.
Бесплатный доступ
Через призму феномена методологии рассматривается разрабатываемый автором ментальный подход в социально-гуманитарном знании к рассмотрению вопросов взаимодействия общества и человека, некоторые его социально философские и философско-образовательные аспекты. На примере проектных технологий в образовании фиксируются содержательно значимые особенности методологии научного исследования.
Методология, идентичность, менталитет, ментальный подход, философия образования, технология проекта, социально-гуманитарное знание, социальная установка, ментальные функции
Короткий адрес: https://sciup.org/14822385
IDR: 14822385
Текст научной статьи Ментальный подход к изучению общества и человека: вопросы методологии
Философско-методологическое осмысление актуальных как к теоретическом, так и в практическом отношении вопросов взаимодействия общества и человека предполагает разностороннее видение тех или иных исследовательских аспектов в рамках различных отраслей (или направлений) социально-гуманитарного знания. В современной России особое (и традиционное для нашего Отечества) звучание приобретают, например, вопросы методологии истории – важные не только в общественно-политическом аспекте, но и в национально-государственном их разрешении. К слову, никуда при этом не уйти и от историософского измерения проблемы исторического знания, исторической памяти, исторического методология, самосознания общества и человека и др., впрочем, это тема отдельного осмысления. Полагаем необходимыми некоторые уточнения понятия методологии в самом широком, а также узком смысла слова.
Методология в самом первом приближении понимается как «учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности», как утверждает «Советский энциклопедический словарь» [14]. Несколько иное звучание термина (и соответствующее содержание научного понятия) приводится в Философском энциклопедическом словаре: «Методология – система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе фиксируется как система социально апробированных правил и нормативов познания и действия, которые соотносятся со свойствами и законами действительности» [17, с. 365]. Существенным уточнением понятия, связанным с развитием методологии, выступает следующее: «Особое влияние на развитие методологии оказывают процессы дифференциации и интеграции научного знания, коренные преобразования классических и появление множества новых дисциплин… Возникает необходимость не только связать воедино усилия специалистов разного профиля, но и объединить различные представления и решения в условиях принципиальной неполноты и неопределенности информации о комплексном объекте» [17, с. 366]. Принцип полидисциплинарности, актуальный для многих современных исследований, таким образом, видится здесь вполне убедительно обоснованным, заданным самим понятием методологии.
Краткая философская энциклопедия рассматривает методологию, или учение о методе, как «исследование метода, особенно в области философии и в частных науках, и выработка принципов создания новых, целесообразных методов» [6, с. 471]. В данном определении видится важным фиксирование открытости методологии, то есть возможности ее непрерывного исследовательского развития – как опытным ученым путем – извне, так и саморазвития – изнутри. Таким образом, выработка нового взгляда на ту или иную сторону взаимодействия общества и человека, фиксируемая в современных авторских концепциях, подходах или теориях, выступает не только как допустимое или возможное, но и как желательное действо. А методология, как мы понимаем, тесно связана с творческим исследовательским началом, сопровождающимся логичным и убедительным научным обоснованием. Данные философские определения помогают выстроить некое понимание методологии, что в единстве и составляет действительно философско-методологическую основу того или иного исследования, концепции, подхода.
Ментальный подход , то есть рассмотрение различных вопросов и проблемных узлов современного (а также в исторической ретроспективе) социально-гуманитарного знания предлагается нами в качестве своеобразной методологической основы научных исследований различного плана: философского, исторического, педагогического, психологического, культурологического и иных. Некоторые авторы рассматривают в качестве актуальных, например, вопросы психосоциологии менталитета [4], политической ментальности [2; 9], этнических оснований менталитета [7]. Возможны и другие аспекты, также имеющие полное право на существование, так как с точки зрения принципа открытости ментальных исследований предлагаемый нами к освоению ментальный подход понимается как инструмент поиска наиболее общих (в методологическом понимании) оснований исследований, осуществляемых в пространстве социально-гуманитарного знания.
Поэтому полагаем необходимым определиться в категориально-понятийном отношении с тем, что мы понимаем под методологией; мы видим, что это понимание весьма разнообразно – от узконаправленных и упрощенных трактовок до сверхсложных в структурном отношении и понимании теоретических построений.
Обобщение различных определений методологии и выделение наиболее существенных ее составляющих позволяет исследователям дать следующее, например, определение: «Методология – это учение об организации деятельности. Такое определение однозначно детерминирует и предмет методологии – организация деятельности» [8]. С такой точки зрения методология может рассматриваться очень широко – как учение об организации любой человеческой деятельности: и научной, и любой практической профессиональной деятельности (как в сфере материального, так и в сфере духовного производства), и художественной, и игровой и т. д. – с одной стороны. С другой стороны – и индивидуальной, и коллективной деятельности. Надо признать, что точек отсчета в развертывании содержания понятия может быть значительное множество. На сегодняшний день представляется вполне возможным и убедительным изложение методологии научной деятельности (научного исследования), в рамках которой выделяются как авторские точки зрения (аргументированные позиции), так и концептуальные теоретические конструкции, в том числе подходы.
При этом мы исходим из того, что существуют различные понимания методологии, зависящие во многом от того, что мы предполагаем получить в качестве некоего итогового продукта или иного результата. Здесь важно учитывать также и исходные основания исследования, заранее определенный и, возможно, уже отработанный порядок исследовательских действий в рамках заданной парадигмы (внутренней направленности деятельности) данного исследования. Все данные (а возможно, и некоторые иные – это требует дополнительного подробного осмысления) аспекты исследования вполне убедительно укладываются в своеобразную канву ментального подхода, характеризуя его содержательные особенности. В любом случае, разнообразие позиций в характеристике понятия «методология» отражает его содержательное богатство и научные перспективы.
Методология в нашем понимании означает упорядочение деятельности в относительно целостную систему с достаточно четко определенными принципами реализации и иными научными характеристиками, логической структурой и процессом ее осуществления – своеобразной временнόй структурой. Такая трактовка возможна с учетом парных категорий диалектики (экстрем), в числе которых выделяются в том числе «историческое (временнόе) и логическое»). Логическая структура включает в себя в традиционном научном понимании субъект, объект, предмет, формы, средства, методы деятельности, ее результат. Внешними по отношению к ней являются особенности, принципы, условия и нормы деятельности.
Конечно, нам известны исторически различные типы культуры организации деятельности, изучаемые исследователями часто в историософском ключе [3]. Одним из ведущих современных типов деятельности является проектно-технологический, сущность которого заключается в том, что продуктивная деятельность человека (или организации) разбивается на отдельные содержательно и формально завершенные циклы, называемые проектами [10, с. 80-84].
К слову, проектные технологии в отечественном образовании некоторое время рассматривались как своего рода «универсальные отмычки» в достижении новых результатов образования. Однако позже от этой мысли отказались, поскольку желаемые цели не были достигнуты, а «новое» вовсе не означает «лучшее». Об этом следует, на наш взгляд, помнить и сегодня, когда проектным технологиям вновь придается сверхзначимость с многократно завышенными ожиданиями. Понятно, что любая технология, в том числе в сфере образования, возведенная в абсолют, изначально содержит в себе в определенном смысле разрушительное зерно…
Тем не менее, технология проекта, в том числе в образовании, весьма интересна и перспективна, как в научно- и учебно-исследовательском, так и в социально-проектном отношении, а также с точки зрения учебного проекта на урока. Здесь достаточно много общего в структуре и последовательности реализации проекта, а также в способах организации деятельности. Поэтому видится важным в философско-методологическом отношении остановиться на вопросе проектных технологий подробнее.
Процесс осуществления деятельности рассматривается в рамках проекта по определенным этапам (или фазам), последовательность которых является в целом общей для всех видов деятельности. Может быть, лишь возрастные особенности участников проекта добавляют здесь некоторый элемент своеобразия. Завершенность цикла деятельности (проекта) определяется некоторыми фазами: а) фаза проектирования , результатом которой является построенная модель создаваемой системы и план ее реализации; б) технологическая фаза, результатом которой является реализация проекта; и в) фаза рефлексии – оценка реализованной системы субъектами проекта, определение необходимости либо коррекции результата, или организация новой проектной работы.
В связи с этим полагаем возможным обозначить следующий вариант понимания структуры методологии. Во-первых, это основания методологии: философия, психология, системный анализ, науковедение, этика, эстетика; в соответствии с системным подходом рассматриваемый предмет определяется как целостный феномен с соответствующими уровнями организации и динамикой; при социальнофилософском исследовании используются также методы сравнительно-исторического, структурнофункционального анализа и принципы диалектического мышления; к теоретическим основаниям и источникам исследования относятся, на наш взгляд, труды отечественных и зарубежных ученых; к числу методологических оснований мы с поной справедливостью относим и ментальный подход к вопросам взаимодействия общества и человека, разрабатываемый автором, – в силу большой востребованности его в современном социально-гуманитарном знании. Следующим важнейшим в методологическом отношении элементом являются общие характеристики деятельности: особенности, принципы, условия, нормы. Третий элемент методологии связан с освоением логической структуры деятельности: субъект, объект, предмет, формы, средства, методы, результат деятельности. Ну и, в-четвертых, не следует упускать из виду временнóй структуры деятельности, в которую могут быть включены различные фазы, стадии или этапы.
Такое понимание и построение методологии в философско-образовательном контексте позволяет как отсечь от методологии традиционно приписываемые ей излишние наслоения, так и найти общую логику таких различных широко обсуждаемых в современной научной литературе вопросов и проблемных узлов социально-гуманитарного знания, в том числе связанных с поиском наиболее общих ментальных оснований социально-индивидуального развития отдельного субъекта. Это вовсе не означает приписывания методологии неких излишних наслоений, а, наоборот, вычленение существенных структурных компонентов научного исследования, которые, впрочем, в различных исследовательских работах, в том числе диссертационного плана, зафиксированы, на наш взгляд, вполне отчетливо.
Поиск сущностных оснований ментального подхода, подтверждающих необходимость его актуализации, подводит нас к общим проблемам методологического обоснования научных исследований, которые всегда занимали значительное место на различных этапах развития науки. Мы исходим из того понимания, что развитие любой науки может осуществляться лишь в том случае, если она пополняется новыми фактами, накопление и интерпретация которых обеспечивается применением научно обоснованных методов исследования в единстве и взаимодействии научных теорий, концепций, подходов. А выбор методов исследования зависит от совокупности теоретических принципов, составляющих основу исследования и основные направления процесса познания
Составляя основу исследования, методология определяет способы изучения и преобразования действительности, пути достижения поставленной цели (методы), реализация которых предполагает применение определенных процедур, приемов (методики). Взаимосвязь понятий «методология», «метод», «методика», определяется как соотношение «целого» и «части». Реализация методологических оснований научного анализа педагогических явлений и процессов осуществляется посредством применения методологических подходов. В общепринятом понимании слово «подход» означает совокупность приемов, способов, используемых для воздействия на кого-либо, изучения чего-либо, ведения дел. Исследовательский подход определяется как «исходный принцип», исходная позиция исследователя.
Полагаем возможным зафиксировать для понятия «подход» и определение «пространство исследования», т. е. набор феноменов, на которые обращается исследовательский интерес. Этот «набор» задается, например, в рамках исследования ментальных феноменов теми категориями, которые фиксируют или обозначают некоторые сущностные основания менталитета общества и ментальности личности, их содержание, смысл и функциональные характеристики.
Анализ понятия «подход» подводит к целесообразности выделения уровней его толкования, что обусловлено его многоаспектностью и весьма широким методологическим содержанием. Это подтверждается тем, что в современной методологической литературе понятие «подход» либо отождествляется с проведением в исследовании определенной мировоззренческой позиции, либо понимается как стратегический принцип или их совокупность, либо связывается с применением набора процедур и приемов, служащих формой и условием реализации соответствующих принципов и др. Научный подход, в том числе ментальный, вполне убедительно совмещается в содержательном отношении с понятием научной парадигмы, фиксирующей совершенно определенную внутреннюю направленность деятельности субъекта (в данном случае – исследователя), не столько заданную, сколько ограниченную выделенными предметом и объектом исследования.
Важнейшим здесь представляется реализация принципа дополнительности во взаимодействии различных подходов как наиболее общих оснований научного, в т. ч. философско-образовательного исследования, осмысления проблем мира и человека в его динамике, движении, развитии под влиянием внешних и внутренних факторов. Ментальный подход в этом не является исключением, поскольку, как правило, только один подход не исчерпывает методологической характеристики конкретного исследования. Сложность и многогранность явлений окружающей действительности, их взаимосвязь и взаимозависимость обусловливает необходимость применения совокупности методологически значимых принципов, обеспечивающих получение объективной, достоверной информации, позволяющей создать целостную картину явления в рамках ментального подхода.
Никуда не уйти оттого, что слово «менталитет» до сего дня звучит как иностранный термин, а количество опытов эмпирического, феноменального описания менталитета весьма обширно. Актуализация исследований ментальных феноменов заслуживает положительной оценки; но подчас совершенно размывается внутреннее содержание понятия и, таким образом, отодвигается искомое – сущностные основания, структурные составляющие и законы «жизнедеятельности». Конечно, бесконечное «производство» определений менталитета, то есть чисто суммативное собирание некоторых характеристик, не объединенное общей ментальной теорией, и возникающие при этом разноуровневые содержательные дихотомии создают иллюзию разнообразия и богатства толкования проблемы, которая, на наш взгляд, сдерживает действительно философское исследование, формирование и формулировку основных положений теории менталитета. Мы рассматриваем менталитет как феномен, лежащий в основе предлагаемого нами ментального подхода к проблеме взаимодействия общества и человека в рамках социально-гуманитарного знания.
Менталитет народа формируется под воздействием особенных факторов, прежде всего исторических. Он имеет свои отличительные особенности, которые становятся наиболее заметными в соотношении с ментальными установками других народов. В таком ключе видится важным, что исследование особенных черт русской нации актуализируется сегодня в свете происходящего в последние годы разноуровневого социально-культурного сближения России с объединенным европейским сообществом.
Проблема менталитета в различных его проявлениях уже рассматривалась нами ранее [11, с. 2934], поэтому, чтобы не повторятся, обозначим лишь наше авторское понимание менталитета, которое может быть зафиксировано следующим определением: «Менталитет – это устойчивая во «времени большой длительности» (Ф. Бродель) система внутренних глубинно-психических социокультурных установок общества, формирующаяся и изменяющаяся как под влиянием внешних воздействий, так и путем внутренне обусловленного саморазвития, и функционирующая на уровне внесознательного.
Глубинно-психические установки, то есть непрерывно «работающие» вне поля «открытого» или внешнего (так называемого «чистого») сознания духовные ориентации мысли и воли, включают в себя восприятие, оценку и поведение. Таким образом, в основу работы «ментальных механизмов» положены три основные функциональные установки: установка восприятия (представляющая собой когнитивный элемент), установка оценки (аффект) и установка поведения (деятельностный компонент рассматриваемой «триады»), которые могут быть структурированы в своеобразную глубинно-психическую «вертикаль».
Уточним, что здесь понятие «глубинно-психический» использовано нами в том смысле, что феномен менталитета несколько выходит за пределы общественного сознания, но, вместе с тем, не отождествляется и с коллективным бессознательным – в контексте теоретических построений З. Фрейда, А. Адлера и К. Юнга о психосексуальной основе коллективного бессознательного.
Приведенное определение понятия «менталитет» является концептуальной основой настоящего исследования. Оно представляется нам не только вполне жизнеспособным, но и убедительным в функциональном плане – возможностью заполнения вектора фиксированных социально-культурных установок в зависимости от круга интересов и исследовательской позиции того или иного автора» [12, с. 52-53].
Небезынтересно в социально-философском плане то, что устройство социальной жизни любого народа может быть убедительно проявлено и отслежено в целом ряде взаимоотношений человека и общества, индивида и малого сообщества, социальной группы и др., например, в семейных, возрастных, гендерных ситуациях взаимодействия индивидов и социальных сообществ. Это может быть представлено и в пространстве профессиональной организации индивидуальной деятельности, в политическом, культурном, военном и иных аспектах. Эти аспекты суть проявления различных сфер национальной культуры [5, с. 201]. И любой из них заслуживает внимания через призму ментального подхода в пространстве национальной цивилизации – в историческом протяжении и в современном социокультурном контексте. Это же вновь подталкивается нас к мысли о невозможности сформулировать в раз и навсегда зафиксированном виде ту или иную отдельную черту народа как социально-культурную установку менталитета. Речь идет вовсе не о неопределенности национальных черт, а о принципиальной открытости и незавершенности ментальных феноменов в их социально-культурной и исторической динамике.
В нескольких словах обозначим отдельные составляющие элементы ментального подхода. Он, полагаем, весьма востребован в современном социально-гуманитарном знании, помогая анализировать и проектировать те или иные коллективные, прежде всего, поведенческие феномены, имеющие глубинно-психическую природу. Поэтому его разработка, доведение до состояния, понятного и удобного для использования специалистами различных социально-гуманитарных отраслей – настоятельная необходимость сегодняшнего дня. Наше понимание может быть выражено следующим образом.
Ментальный подход – это попытка обоснования современной действительности (социальных реалий, прежде всего) с точки зрения национальной глубинной духовности. Это – попытка найти осно- ву для ответа на вопросы, на который человек в повседневной жизни, на уровне обыденного здравого смысла, ответить не в состоянии. В чем причины неудач современных реформ и модернизационных процессов?.. Ведь неудача может быть представлена как разница между ожидаемым и действительным; а что вообще есть это самое «ожидаемое», возможно ли его особо обозначить, рационализировать, формулируя раз и навсегда данным образом? Это – вопросы ментального плана, к которым можно добавить проблему поиска ментального ядра: где таится первопричина современных правовых (нравственных, религиозных или иных) деформаций? Только ли в наборе жестких ограничительных мер? Или в «темной стороне» души человека и мира?
Ментальный подход – это поиск онтологических оснований русской духовности и следующих из этого опор нашей социальной защиты (мы основываем наше понимание ментального подхода на отечественном историческом, культурном и духовном опыте). Вообще, ментальный подход – это поиск острых углов, проблем, являющих сущность любой цивилизации и культуры, общественного мироустройства, мировидения и мирочувствия. В структурном или, скорее, – последовательно развертываемом содержательном отношении ментальный подход может быть в первом, предлагаемом нами, приближении представлен следующим образом:
-
1) анализ социальной действительности – в рамках ментального подхода невозможный «сам по себе» или «для себя», – только для дальнейшего синтеза (в том числе социального) или аспектного рассмотрения отдельных проблемных узлов и особенностей их протекания социальных процессов. Именно в таком ключе во многом выстроена концепция социальной логики Г. Тарда [15, с. 122-134];
-
2) анализ исторической традиции: фольклорная народная традиция – сказки, песни, былины, эпос и др.; массовые представления – обычаи, суеверия, привычки поведения и т. п.; письменная традиция – религиозность, в т. ч. апокрифическая, язычество и его бытовые, на уровне суеверий, проявления и т. п.; ученая традиция – религиозная, философская, литературная и ее отражение в народной среде;
-
3) анализ исторических фактов и событий и их интерпретация.
Именно в таком ключе может быть представлен начальный этап социально-философского анализа ментального подхода, обоснование которого необходимо для современного социально-гуманитарного знания, не только российского, но и зарубежного. Здесь «всеобщность» некоторых положений выступает как методологическая основательность исследовательских позиций.
В последние годы глубокому анализу подвергается русская религиозно-философская традиция в контексте изучения устойчивых ценностей и ориентиров российского общества. Основным в этом поиске является более точное определение содержательной нагрузки понятия «менталитет», задающего смысловое поле проблемной напряженности. Исследование менталитета как устойчивой в длительном историческом протяжении системы внутренних глубинно-психических социально-культурных установок общества может быть естественно вплетено в общий проблемный узел современной философии. Осмысление глубочайших и широких пластов русской истории и русского сознания, духовного склада и образа мышления русского народа стало важным направлением развития отечественной философской мысли сегодня.
Б.С. Гершунский, например, рассматривал категорию «менталитет» как иерархически высший ценностный и целевой компонент в структуре образовательной педагогической аксиологии. Он замечает, что изучение данного феномена для науки является значимым хотя бы потому, что представляет интерес «возможность исторически ретроспективного предсказания поведения, поступков индивидуального или коллективного субъекта в определенных видах деятельности и жизненных ситуациях» [1, с. 111].
Однако здесь видится важным не только кросс-культурный аспект, но и сравнительно-исторический, в том числе историко-культурный (в рамках данного конкретного этноса в историческом протяжении). Включение в социально-философский анализ такого широкого исторического контекста позволяет выделить некоторую закономерность, заключающуюся в том, что все более или менее существенные сдвиги в экономике, культуре, социально-политической и правовой организации об- щества органически связаны с изменениями на уровне личности, то есть в строе индивидной жизни людей – малого или большого человеческого сообщества. Поэтому проблема изменения личностных ментальностей под воздействием внешних факторов представляется одной из наиболее актуальных сегодня. «Вписанность» проблемы взаимодействия личности и общества в исторический контекст, в логику и результаты историко-культурных изменений позволяет сделать предположение о том, что нынешняя актуализация ее не является для социально-гуманитарного знания чем-то необычным.
Рассматривая ментальный подход как философско-методологическую основу исследований в сфере социально-гуманитарного знания, попытаемся обозначить некоторые наши рассуждения о сущности и востребованности его в современной науке. Ментальный подход – это своеобразный наиболее общий инструмент освоения социально-гуманитарного пространства. В его основе находится феномен менталитета, исследования которого продолжают актуализироваться в современной науке, обретая новые аспекты [7; 9] и возвращаясь к тому, что уже было обозначено исследователями.
Ментальный подход в социально-гуманитарном знании означает рассмотрение различных проблемных узлов и вопросов взаимодействия общества и человека через призму системы установок, включающей в себя не только ценностные установки и ориентиры, некие культурные детерминанты окружающего природно-социального пространства, но и психологические особенности человека и общества, способности воспринимать и оценивать их, а также действовать в рамках наличной культуры – данной, заданной или случайной.
Продолжающаяся актуализация ментальных исследований, закономерная, исходя из принципа открытости феномена менталитета / ментальности, нуждается, полагаем, и в научном обосновании этого интереса с учетом принципа полидисциплинарности, методологически неизбывного для тех, кто интересуется той или иной стороной рассматриваемого вопроса.
В качестве одной из содержательных основ, актуализирующих ментальные исследования в науках об обществе и человеке, мы выделяем ряд функций менталитета, которые и задают, на наш взгляд, деятельностное пространство ментального подхода, предлагая ответ на извечный вопрос «зачем» и пытаясь получить, пока что в теоретическом аспекте, некоторые исследовательские результаты – в сфере психологии, культурологи, педагогики, философии, политологии и других отраслей социально-гуманитарного знания.
Традиционной функцией феномена менталитета многими исследователями признается защитная . Это видится справедливым в контексте принципа относительной устойчивости глубинно-психических социально-культурных установок менталитета, однако, и недостаточным с точки зрения целостного понимания ментального подхода, основывающегося на феномене менталитета / ментальности в его конкретном осуществлении. Функция защиты вытекает из особенностей психологической реализации установочных механизмов индивидуально-личностного либо социально-группового планов [16]. Другие предположительно обозначаемые нами функции имеют, на наш взгляд, не меньше оснований как для существования, так и для научного признания в рамках социально-гуманитарного знания.
Функция идентификации видится в определенном смысле даже превалирующей над функцией защиты, поскольку для ответственного отстаивания тех или иных норм, правил и иных ценностных ориентиров необходимо первоначальное самоопределение субъекта вне зависимости от того, что он собой представляет – общество (государство) или другое большое сообщество людей, социальную группу с теми или иными сущностными характеристиками отличия или отдельного человека. Идентичность может быть осуществлена (реализована) через язык, национальное сознание, семейно-бытовые особенности, религию и другие сферы культуры, то есть через систему наличных социально-культурных установок. Именно об этом ценностном измерении мы и рассуждаем, когда ведем речь о ментальности / менталитете.
Понимая менталитет как систему установок, мы выделяем такую его функцию как систематизация, то есть приведение в определенную целостную систему, относительно устойчивую в историческом протяжении – для больших социальных феноменов или на время жизнедеятельности индивида – в личностном измерении. Именно организация системы ментальных установок дает возможность выстраивать разнонаправленные векторы идентификации и самоидентификации в условиях данной конкретной культуры.
Объединяющая функция менталитета выступает в социальном отношении как наиважнейшая. Речь идет о продуцировании тех или иных элементов культуры в виде ценностного ряда социокультурных установок и освоения их активными участниками жизнедеятельности и самореализации ментальных субъектов. Объединение (сияние) происходит на основе «похожести» в реализации глубинно-психических установок менталитета в повседневности. Слияние подобного с подобным – не универсальный механизм, но вполне убедительная в функциональном отношении характеристика менталитета / ментальности.
Функция восстановления поврежденных ментальных структур также важна, поскольку в ходе столкновения больших или малых ментальных структур, в процессе обмена ментальными установками некоторые из них могут быть утрачены либо видоизменены кардинальным образом. Восстановление их возможно с ученом создания специальных условий, о чем писал (несколько в ином контексте) Д.Н. Узнадзе: установки могут «затухать» в ситуации невостребованности, но актуализироваться, «оживать» в те или иные моменты, когда необходимость в них проявляется наиболее убедительным образом.
Возрождение этих «затухших» установок, о которых говорит Д.Н. Узнадзе, и есть процесс ментального восстановления индивида, социальной группы, общества. Полагаем необходимым небольшую ремарку о том, что данный процесс не следует рассматривать механистически; здесь работа идет на глубинно-психическом уровне, где и реализуются, в нашем представлении, ментальные механизмы взаимодействия общества и человека.
В качестве отдельной функции можно обозначить коррекцию социально-культурного или глубинно-психологического типа, проводимую постепенно, органично и ненасильственно, с условием изменяющихся условий наличной культуры. Причиной последовательных корректировок могут служить не только подвижки во внешней – социальной и природной – среде (революции, социальные или природные катаклизмы, смена привычного места обитания и т.п.), но и следствие так называемого «диалога культур» – феномена, достаточно известного в пространстве социальной истории, исторической и кросс-культурной психологии, культурологи, философии политики и многих других областей современного отечественного и зарубежного социально-гуманитарного знания.
Обозначенные и другие основные функции менталитета – существенные характеристики ментального подхода – важны для его понимания и выступают в качестве одной из философско-методологических основ нового подхода к проблемам взаимодействия общества и человека в рамках отечественного и зарубежного социально-гуманитарного знания.
Список литературы Ментальный подход к изучению общества и человека: вопросы методологии
- Гершунский Б.С. Философия образования для ХХI века (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций). М.: Совершенство, 1998.
- Гуляихин В.Н. Политические и правовые ценности граждан в трансформирующемся российском обществе: опыт регионального исследования//Политика и общество. 2010. № 12. С. 17-25.
- Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М.: Индрик, 1993.
- Душков Б.А. Психосоциология менталитета и нооменталитета/Б.А. Душков. Екатеринбург: Деловая книга, 2002.
- Коломоец Е.Н. Национальное и философия истории//Философия и будущее цивилизации: тез. докл. и выступлений IV Рос. филос. конгр. (24-28 мая 2005 г.): в 5 тт. Т. 3. М.: Современные тетради, 2005.
- Краткая философская энциклопедия. М.: Изд. группа «Прогресс» «Энциклопедия», 1994.
- Лутова С.К. Этнонациональные отношения в Санкт-Петербурге в условиях политического реформирования: дис. … канд. полит. Наук. СПб, 2006.
- Новиков А.М. Методология. М.: Синтег, 2007.
- Подвойская Н.Л. Концепт политического менталитета в американской политологии второй половины XX века: дис. … канд. полит. Наук. Москва, 2009.
- Полежаев Д.В. Ментальные проекты в образовании: к постановке проблемы//Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2009. № 6 (40). С. 80-84.
- Полежаев Д.В. Российская идентичность в исторической динамике: ментальные аспекты исследования//Известия Волгоградского государственного технического университета. № 2 (155). Волгоград, 2015.
- Полежаев Д.В. Русский менталитет: опыт социально-философского анализа: дис. … докт. филос. наук. Волгоград, 2011.
- Резник Ю.М. В поисках новой гражданской общественности/Ю.М. Резник//Известия Томского политехнического университета. 2012. Т. 320. № 6. С. 106-112.
- Советский энциклопедический словарь. изд-е 4-е. М.: Сов. энциклопедия, 1988.
- Тард Г. Социальная логика. СПб.: Социально-психологический центр, 1996.
- Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки//Д.Н. Узнадзе/Психология установки. СПб.: Питер, 2001. С. 5-254.
- Философский энциклопедический словарь/гл. ред.: Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. М.: Сов. энциклопедия, 1983.