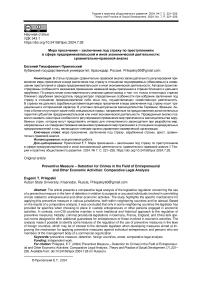Мера пресечения - заключение под стражу по преступлениям в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: сравнительно-правовой анализ
Автор: Прилепский Е.Т.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 7, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье проведен сравнительно-правовой анализ законодательного регулирования применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Автором проиллюстрированы особенности механизма применения названной меры пресечения в странах ближнего и дальнего зарубежья. По результатам сопоставительного анализа сделан вывод о том, что только в некоторых странах ближнего зарубежья законодатель предусмотрел определенные особенности при избрании заключения под стражу в отношении предпринимателей либо иных лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. В странах же дальнего зарубежья регламентация меры пресечения в виде заключения под стражу носит традиционный и исторический характер. В уголовно-процессуальном законодательстве Германии, Франции, Англии и Китая отсутствуют какие-либо специальные нормы, направленные на предоставление дополнительных гарантий субъектам предпринимательской или иной экономической деятельности. Проведенный анализ позволил выявить некоторые особенности регулирования применения мер пресечения в законодательстве зарубежных стран, которые могут представлять интерес для отечественного законодателя при разработке мер, направленных на совершенствование механизма применения мер пресечения в отношении индивидуальных предпринимателей и лиц, являющихся членами органа управления коммерческой организации.
Мера пресечения, заключение под стражу, зарубежные страны, арест, сравнительно-правовой анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/149146046
IDR: 149146046 | УДК: 343.1 | DOI: 10.24158/tipor.2024.7.28
Текст научной статьи Мера пресечения - заключение под стражу по преступлениям в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: сравнительно-правовой анализ
Применение мер пресечения при расследовании уголовного дела является одной из основных гарантий обеспечения надлежащего и современного осуществления правосудия, предупреждения совершения преступлений и сокрытия их последствий. Внесение изменений в закон, касающихся применения мер пресечения, указывает на то, что основное направление уголовноправовой политики нашей страны заключается в стремлении представительного органа власти обеспечить разумный баланс интересов сторон и нормальное течение уголовного судопроизвод-ства1. Кроме того, необходимо отметить, что в настоящее время законодателем предпринимаются серьезные шаги в области реформирования уголовного судопроизводства с целью оптимального правового обеспечения экономической составляющей национальной безопасности (Гладышева, Семенцов, 2018).
Различные аспекты применения мер пресечения традиционно вызывают повышенный интерес у исследователей, о чем свидетельствует значительное количество диссертационных и монографических исследований, посвященных этому вопросу2. Отдельный предмет дискуссий – появление в отечественном уголовном процессе таких новых участников, как индивидуальные предприниматели и лица, являющиеся членами органа управления коммерческой организации, а также наделение их дополнительными процессуальными гарантиями при решении вопроса об избрании мер пресечения.
Следует обратить внимание, что законодатель стал уточнять особенности механизма применения мер пресечения в отношении очерченного круга лиц относительно недавно (Прилепский, 2023), и, к сожалению, вносимые изменения трудно назвать последовательными и системными. Причем в перечень преступлений, указанный в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, постоянно вносятся изменения, а разъяснений, данных Верховным Судом РФ по этому поводу, оказывается недостаточно3. В результате на практике понятия двух видов преступлений, закрепленных в п. 27.1 и 27.2 ст. 5 УПК РФ: совершенных индивидуальным предпринимателем и членом органа управления коммерческой организации, в ходе производства по уголовному делу используются неоднозначно.
В такой ситуации, на фоне широкой научной дискуссии и трудностей правоприменения, представляется правильным изучение зарубежного опыта, позволяющего обогатить отечественную теорию и практику в области применения мер пресечения в отношении подозреваемых (обвиняемых) в совершении экономических преступлений. Помимо этого, исследование практически любого феномена в уголовно-процессуальном законодательстве требует осмысления опыта зарубежных стран, так как проведение компаративистского анализа служит одним из условий научной корректности и обоснованности.
Необходимо заметить, что в странах с развитым законодательством государство реализует свой потенциал в области уголовного судопроизводства посредством применения определенных принудительных мер. Как указывает профессор Л.В. Головко, без специальных мер, обеспечивающих исполнение обязанностей, уголовный процесс носил бы декларативный характер, и потому такие меры существуют во всех уголовно-процессуальных системах без исключения, независимо от того, имеют ли они либеральный или авторитарный характер, относятся к континентальной или англосаксонской модели судопроизводства и др.4
Центральное место в системе мер пресечения отводится заключению под стражу, поскольку данная мера в наибольшей степени ограничивает конституционные права граждан и в законодательствах многих стран другие меры пресечения рассматриваются в качестве её альтернативы. Здесь стоит акцентировать внимание на необходимости системного подхода, который учитывал бы особенности той или иной правовой системы. В связи с этим думается, что для выработки общего представления о зарубежном опыте в исследуемой области целесообразно проанализировать законодательство как ближнего, так и дальнего зарубежья, чтобы охватить весь спектр различных правовых систем, выбрать для изучения те государства, которые имеют давнюю историю своего формирования и развития.
В первую очередь, считаем возможным обратиться к опыту некоторых стран СНГ, которые составляют группу государств ближнего зарубежья, а в ракурсе изучения опыта стран дальнего зарубежья – к законодательству и судебной практике Германии, Франции, Англии и Китая. Подобный подход видится логичным и традиционным, так как охватывает практически все правовые системы.
Анализируя конструкции уголовно-процессуального законодательства стран ближнего зарубежья, отметим, что, с одной стороны, они во многом схожи по своему содержанию. Это объясняется тем, что они разработаны и приняты на основе Модельного Уголовно-процессуального кодекса для государств – участников Содружества Независимых Государств1, который был создан с целью формирования концептуально схожего подхода к уголовному судопроизводству в странах СНГ (Победкин, 2019). С другой стороны, по прошествии достаточно длительного периода времени с момента принятия данного документа, в результате произошедших политических, экономических и иных изменений, смены политических курсов, географической и социальнокультурной специфики, в уголовно-процессуальном законодательстве стран СНГ содержаться весьма существенные различия, которые требуют внимательного изучения.
В УПК практически всех обозначенных стран есть норма, специально регламентирующая заключение под стражу, а также норма, определяющая сроки ее применения и продления. Исключением является Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана от 18 апреля 2009 г.2, в котором содержится целая глава, посвященная предварительному заключению. Кроме того, нужно обратить внимание на разный подход к наименованию самой меры: в отдельных государствах заключение под стражу называется принудительным арестом.
Обращаясь к регламентации заключения под стражу в отношении подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, заметим, что только в некоторых государствах прямо предусмотрены особенности ее избрания для данной категории лиц.
В частности, такое регулирование содержится в ст. 126 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь3 (далее – УПК Белоруссии), где предусмотрена возможность заключения под стражу в отношении лиц, являющихся подозреваемыми или обвиняемыми в совершении менее тяжких преступлений4 против порядка осуществления экономической деятельности5 (за исключением контрабанды, незаконного экспорта или передачи в целях экспорта объектов экспортного контроля, легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем), только в исключительных случаях при условии, что они не имеют постоянного места жительства на территории Республики Беларусь или не установлена их личность.
Аналогичная норма содержится в Уголовно-процессуальном кодексе Кыргызской Респуб-лики6 (далее – УПК Киргизии), но в данном случае законодатель пошел несколько по иному пути и определил не категории преступлений, а статьи уголовного законодательства. Так, ст. 114 УПК Киргизии предусмотрено, что заключение под стражу не применяется к субъектам предпринимательства, обвиняемым в совершении конкретных преступлений против собственности (ст. 210 и 215 УК), против порядка осуществления экономической деятельности (ст. 218, 220, 223, 225, 230 и 231 УК), в сфере налогообложения (ст. 238–244 УК), против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст. 245 и 247 УК), за исключением случаев, если лицо скрывается от органов следствия и суда.
В ч. 3 ст. 136 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан1 (далее – УПК Казахстана) также предусматривается запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере экономической деятельности. Исключения составляют уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 217, 218, 218.1, 231, 234, 248 и 249 УК Казахстана. Данный запрет не действует, если лицо пыталось скрываться или скрывалось от органов следствия и суда, подозревается в совершении преступления в составе организованной группы или преступного сообщества (преступной организации).
Интересным представляется содержание положения ч. 3.1 ст. 185 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова (далее – УПК Молдовы)2, согласно которому предварительный арест не применяется, а лицо, к которому уже применена данная мера пресечения, подлежит освобождению в случае внесения залога, установленного судом по заявлению обвиняемого или подсудимого в совершении преступлений, указанных в ч. 1 и 2 ст. 190, ч. 1 и 2 ст. 191, ст. 223, 224, 225, 226, 227, п. а) и b) ст. 228, ст. 241, 242, 244, 244.1, 246, 246.1, 250, 257, 258, 262 и 263 УК. Большинство из перечисленных статей отнесены уголовным законом Молдовы к преступлениям против собственности и экономическим преступлениям (ч. 1 и 2 ст. 190, ч. 1 и 2 ст. 191, ст. 241, 242, 244, 244.1, 246, 246.1, 250, 257, 258 УК Республики Молдова).
В вышеприведенных законодательствах имеются как общие черты, так и различия в части правил применения заключения под стражу. Определяя круг лиц, к которым применяется особый правовой режим, законодатель Казахстана указывает, что они должны привлекаться за преступления, совершенные в сфере экономики, и специально оговариваются исключения из данного правила. В УПК Белоруссии особый порядок распространяется на всех лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, отнесённых к категории не представляющих большой общественной опасности и менее тяжких. В законодательстве Киргизии определяются конкретные нормы уголовного кодекса, которыми предусмотрено наказание за совершение деяния против собственности, порядка осуществления экономической деятельности, в сфере налогообложения и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. УПК Молдовы определяет залог в качестве альтернативы заключению под стражу по определенным преступлениям.
Теперь перейдем к регламентации меры пресечения в виде заключения под стражу в странах дальнего зарубежья, в частности, типичных представителей романо-германской системы права – Франции и Германии, наиболее близких к отечественному регулированию ввиду того, что они основаны на рецепции римского права и объединены общностью структур, источников и сходством понятийно-юридического аппарата.
Вместе с тем следует признать отсутствие в законодательстве Франции и Германии каких-либо специальных правил, применяемых при решении вопроса о заключении под стражу лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия3 (далее – УПК Германии) в разделе IX регламентирует вопросы заключения под стражу и временное задержание. Параграф 113 данного кодекса содержит специальные положения, устанавливающие запрет на применение изучаемой меры пресечения в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, за которые установлено наказание в виде лишения свободы на срок, не превышающий 6 месяцев, или в виде денежного штрафа, не превышавшего 180 дневных ставок. Заключение под стражу лиц данной категории может осуществляться только в случаях уклонения от участия в уголовном процессе; если обвиняемый не имеет постоянного места жительства или пребывания на территории действия закона; не может предъявить документы, удостоверяющие личность (Симагина, 2019).
Регламентация заключения под стражу в Уголовно-процессуальном кодексе Франции4 (далее – УПК Франции) находится в отдельном подразделе 3, именуемом «Предварительное заключение» (ст. 143-1-148-8 УПК Франции).
Данная мера может быть применена, если лицо подлежит уголовному наказанию на срок, равный или превышающий три года тюремного заключения, а также в случае несоблюдения им условий судебного надзора или домашнего ареста с применением средств электронного наблюдения (ст. 143.1 УПК Франции).
Вызывает интерес перечень детерминантов, наличие которых дает возможность принять положительное решение о предварительном заключении. Согласно ст. 144 УПК Франции к таковым относятся: уничтожение доказательств или материальных улик, необходимых для раскрытия истины; оказание давления на свидетелей, потерпевших и членов их семьи; сговор между обвиняемым и сообщниками; пресечение и предупреждение новых преступлений; защита участников процесса и обеспечение явки обвиняемого в суд.
Очевидно, что приведенные обстоятельства могут являться гарантией обеспечения надлежащего осуществления правосудия, хотя, на наш взгляд, такой расширенный, в сравнении с отечественным законом, перечень оснований заключения под стражу дает возможность правоприменителю субъективно подходить к выбору меры пресечения.
Несмотря на то, что в английском уголовном процессе нет перечня условий, при которых содержание под стражей является обязательным вне зависимости от иных обстоятельств, оно содержит два существенных ограничения на освобождение лиц под залог. Во-первых, обвиняемый (подозреваемый) по некоторым преступлениям может быть освобожден под залог только Судом короны1. Во-вторых, суд не может избрать залог в отношении лица, которому вменяется в вину тяжкое преступление, если оно было осуждено за какое-либо преступление в прошлом, за исключением случаев, когда суд придет к выводу, что существуют исключительные обстоятельства, достаточные для освобождения лица под залог (Симагина, 2019).
В Китае, как и в вышеперечисленных странах дальнего зарубежья, отсутствует особый, отличный от общего, порядок применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателей. Вместе с тем следует обратить внимание на регламентацию в Уголовно-процессуальном кодексе КНР2 (далее – УПК КНР) такой меры, как поручительство до судебного разбирательства. Фактически она включает в себя две меры, известные и нашему законодательству – личное поручительство и залог. Так, подозреваемый или подсудимый, его законные представители или ближайшие родственники могут обратиться с просьбой о применении поручительства к органу, ведущему производство по делу (ст. 52 УПК КНР). В случае ее удовлетворения необходимо предоставить поручителя или уплатить денежный залог, который будет являться имущественной гарантией выполнения обвиняемым обязанностей, определенных ст. 56 УПК КНР (своевременно являться по вызовам суда, без разрешения исполнительных органов не покидать место жительства, не уничтожать и не фальсифицировать доказательства, не оказывать давление на свидетелей).
Поручитель должен обладать всей полнотой политических прав и свобод, иметь постоянное место жительства, стабильный источник дохода и не должен быть вовлеченным в рассматриваемое дело. Если подозреваемый, освобожденный под поручительство, нарушит условия данной меры пресечения, а поручитель своевременно не сообщит о допущенных нарушениях, на поручителя может быть наложен штраф, а внесенный залог обращается в доход государства (ст. 55‒56 УПК Китая).
Полагаем, что подобная возможность замены заключения под стражу на поручительство и сам механизм поручительства могут быть интересны отечественному законодателю при разработке возможных вариантов реформирования системы мер пресечения, применяемых в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Такой подход способен как пополнить государственный бюджет, так и сократить нагрузку на органы, исполняющие меру пресечения в виде заключения под стражу.
Подводя итог проведенному сравнительно-правовому анализу, можно сделать следующие выводы:
-
1. Применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении экономических преступлений, имеет особенности только в некоторых странах ближнего зарубежья: в Республике Беларусь, Кыргызской Республике, Казахстане и Молдове. В странах же дальнего зарубежья регламентация избрания данной меры пресечения носит традиционный и исторический характер. В связи с этим в Германии, Франции, Англии и Китае
-
2. Анализ приведенных в исследовании норм зарубежного законодательства, касающихся применения меры пресечения в виде заключения под стражу, позволяет выявить определенный положительный опыт как в части ее регламентации, так и регулирования применения альтернативных ей мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества. Некоторые положения могут быть заимствованы отечественным законодателем для совершенствования уголовно-процессуального законодательства в области избрания мер пресечения в отношении индивидуальных предпринимателей и лиц, являющихся членами органа управления коммерческой организации. Представляют научный интерес конструкции норм УПК Молдовы и Китая, определяющие возможность изменения заключения под стражу на залог или поручительство.
отсутствует какое-либо упоминание о специальных правах, которыми наделяются субъекты предпринимательской деятельности при решении вопроса о заключении их под стражу.
Список литературы Мера пресечения - заключение под стражу по преступлениям в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: сравнительно-правовой анализ
- Гладышева О.В., Семенцов В.А. Современная уголовно-правовая политика по обеспечению экономической безопасности уголовно-процессуальными средствами // Правовая парадигма. 2018. Т. 17, № 2. С. 17-25. https://doi/org/. DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2018.2.3 EDN: XSUVBJ
- Победкин А.В. Уголовно-процессуальные гарантии в государствах - участниках СНГ // Академическая мысль. 2019. № 1 (6). С. 69-70. EDN: CFBWIJ
- Прилепский Е.Т. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: некоторые проблемы применения // Право и политика. 2023. № 6. С. 38-47. DOI: 10.7256/2454-0706.2023.6.40911 EDN: NYSNPO
- Симагина Н.А. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу: зарубежный опыт // Вестник Кузбасского института. 2019. № 4 (41). С. 126-133. EDN: KXFLWF