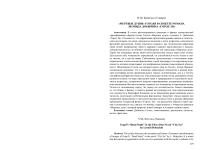«Мертвые души» Гоголя в сюжете романа Леонида Добычина «Город Эн»
Автор: Кривонос Владислав Шаевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются рецепция и формы семантической трансформации образов поэмы Гоголя «Мертвые души» в романе Л. Добычина «Город Эн». Отмечается, что нарративная организация романа связана с читательским кругозором его героя, маленького мальчика и затем подростка, наделенного функцией рассказчика. Автор стремится показать, как читательская рефлексия героя питает воображение героя и выражает наивное представление о вымышленной реальности, где обитают полюбившиеся ему персонажи «Мертвых душ». Герой, как доказывает автор, видит себя в буквальном смысле через текст поэмы. Присваивая себе гоголевских персонажей, он уподобляется им не только в своих мечтах, но и как бы наяву. Собственное представление о гоголевском мире, порожденное читательскими фантазиями, герой проецирует на окружающую реальность, которая ограничивает его воображение рамками повседневной обыденности. Начитавшись Гоголя, он начинает видеть мир по Гоголю. Автор обращает специальное внимание, что с помощью характерных перекличек в романе передана атмосфера жизни провинциального города, отличающаяся, как и у Гоголя, специфической фантастичностью. Как доказывает автор статьи, раскрывая логику развития сюжета, по мере взросления героя и превращения из маленького мальчика в подростка, захваченного новыми переживаниями, вызванными меняющимися внешними обстоятельствами, меняется его отношение к персонажам поэмы Гоголя и к гоголевскому городу Эн, городу его детской мечты. Анализ показывает, что ближе к финалу в сюжете романа актуализируется тема происхождения зла, затронутая в биографии Чичикова, но не привлекшая ранее внимание юного читателя, увлеченного собственными фантазиями. Заключает статью важное для понимания проведенного в ней сопоставления поэмы Гоголя и романа Добычина наблюдение. Открытый финал «Города Эн», где рассказчик обретает новое зрения и возможность все увидеть по-новому, перекликается с открытым финалом «Мертвых душ», который пророчит новый поворот в истории главного героя.
Добычин, гоголь, повествование, рассказчик, читатель, мечты, фантазии
Короткий адрес: https://sciup.org/149139701
IDR: 149139701
Текст научной статьи «Мертвые души» Гоголя в сюжете романа Леонида Добычина «Город Эн»
В работах о творчестве Л. Добычина уже было обращено внимание на обилие реминисценций из «Мертвых душ» и на роль гоголевских мотивов в «Городе Эн»; важные наблюдения, которые мы постарались учесть, были сделаны прежде всего Ю.К. Щегловым, указавшим на особое место, занимаемое гоголевской поэмой в жизни рассказчика [Щеглов 2007], и А.Ф. Белоусовым, попытавшимся выявить социокультурный смысл гоголевской темы романа и понять логику ее развития [Белоусов 2009].
Цель предлагаемой статьи, продолжающей предпринятое нами исследование бытия Гоголя в русском литературном пространстве [Кривонос 2021], - рассмотреть рецепцию и формы семантической трансформации образов поэмы в добычинском романе.
Существенная особенность художественного устройства «Города Эн» связана с читательским кругозором его героя, мальчика, затем подростка, наделенного функцией рассказчика. Будучи персонифицированным рассказчиком, герой описывает происходящее, опираясь на накопленные им впечатления от чтения книг, прежде всего от чтения «Мертвых душ». Свойственная перволичной форме повествования «презумпция автобиографизма» [Атарова, Лесскис 1976, 346], позволяющая задать и настроить в «Городе Эн» определенный ракурс повествования, побуждает рассматривать как автобиографический и читательский опыт героя. Отношение к гоголевской поэме отражает этот отличающийся особой достоверностью
(в силу его автобиографизма) опыт, объясняя, почему «Мертвые души» превращаются для него «в некую парадигму жизни» [Щеглов 2007, 293], в «ее книжный образец» [Белоусов 2009, 136]. А читательская рефлексия героя, питающая его воображение, выражает по-детски наивное (но для него самоочевидное) представление о вымышленной реальности, где обитают полюбившиеся ему персонажи, в которых он видит «живых людей, и отождествляет себя с ними» [Белоусов 2009, 136].
Повествование в «Городе Эн» обладает свойствами преобразуемого в самопрезентацию имплицитного автонарратива (см. об этом понятии: [Тюпа 2019, 90]). Герой, сообщая о происходящем с ним, словно смотрит на себя со стороны и адресует рассказываемое не только потенциальным читателям, но и самому себе. Чтобы «занять нарративную позицию по отношению к себе самому», ему необходимо было, как и любому иному рассказчику в аналогичной ситуации, «увидеть в себе самом - другого» [Тюпа 2019, 91]. Такую возможность (причем не просто увидеть другого в себе, но и обратиться в другого) он как раз и получает, активизируя и актуализируя свой читательский опыт. Герой видит себя в буквальном смысле через текст поэмы, персонажи которой воспринимаются им не как чужие, а как свои, причем настолько свои, что его собственный образ утрачивает твердость и становится пластичным; присваивая себе гоголевских персонажей, он уподобляется им не только в своем воображении, но и как бы наяву.
Образные картинки, запечатлевшиеся в сознании героя, порождены читательскими впечатлениями, главное из которых, как следует из его рассказа, заключается в том, что все чиновники города N «были довольны приездом нового лица» [Гоголь 1951, 18] и что все жители «душевно полюбили Чичикова» [Гоголь 1961, 156]. Ср.: «Я взял книгу и читал, как Чичиков приехал в город Эн и всем понравился. Как заложили бричку и отправились к помещикам, и что там ели. Как Манилов полюбил его и, стоя на крыльце, мечтал, что государь узнает об их дружбе и пожалует их генералами» [Добычин 2013, 111]. Прочитанное вызывает у героя желание обрести, по примеру Манилова, чьи прожекты его воодушевляют, «друга, с которым бы можно поделиться...» [Гоголь 1951, 29]. И реализовать тем самым ощущаемую им потребность так понравиться окружающим, чтобы и его душевно полюбили. Потому эпизод с Маниловым он и примеряет к своим отношениям с новым приятелем, когда отправился к нему в гости: «Я пожал Сержу руку: - Мы с тобой - как Манилов и Чичиков. - Он не читал про них. Я рассказал ему, как они подружились и как им хотелось жить вместе и вдвоем заниматься науками» [Добычин 2013, 115].
Рассказчику, проецирующему свое представление о гоголевском мире, где он, отождествляя себя с персонажами, «хорошо себя чувствует» [Щеглов, 2007, 280], на окружающую реальность, ограничивающую его воображение рамками повседневной обыденности, оказалась близка маниловская «...склонность тяготиться действительностью и уходить в мир мечты» [Щеглов 2007, 295]. В случае Манилова речь идет о сентимента- листски окрашенной мечте, сниженной благодаря авторской иронии (см.: [Кривонос 2019, 108]); рассуждения добычинского героя, этой иронии не замечающего, почему он и Чичикову приписывает желание жить вместе, служат значимой приметой его детских мечтаний обрести друга.
Показательно, как преобразуются в сознании героя отношения с Сержем, поначалу представшим в образе незнакомого и случайно увиденного в окне «черненького мальчика», сильно напугавшего своими гримасами и потому прозванного «страшным мальчиком» [Добычин 2013, 112]. Затем «страшный мальчик» вдруг является домой к герою вместе с дамой, с которой познакомилась и пригласила в гости маман, причем в ответ на прямой вопрос сначала отнекивается, что состроил «страшную рожу» [Добычин 2013, 115], далее, когда был нанесен ответный визит, неожиданно признается, а потом все же клянется «.. .что это не он был» [Добычин 2013, 116]. Андрею, своему ровеснику, с которым он познакомился позже, герой рассказал «про дружбу с Сержем, про Манилова и Чичикова», а также про то, что до сих пор не знает, «...кто был “Страшный мальчик” - Серж или не Серж» [Добычин 2013, 122]. Странное поведение Сержа не мешает ему, однако, превратиться в друга героя - по образцу Чичикова и Манилова; так «Мертвые души» включаются в добычинском романе в движение сюжета.
Тема дружбы, прямо ассоциирующаяся с персонажами Гоголя, вновь возникает в сознании героя в эпизоде, когда маман, готовясь к встрече Нового года, говорит мужу, как светло у нее на душе: «Отчего это? Уж не двести ли тысяч мы выиграли?» [Добычин 2013, ИЗ]. Как поясняется в примечаниях, таков «максимальный выигрыш в тиражах российских государственных займов» [Добычин 2013, 480]. Мысли маман тоже «не так безотчетны», как возможная реакция «только начавшего жизненное поприще», и «даже отчасти очень основательны», как мысли Чичикова, встретившего на дороге молоденькую блондинку и задумавшегося, что если ей «да придать тысячонок двести приданого, из нее бы мог выйти очень, очень лакомый кусочек» и что это могло бы составить «счастье порядочного человека» [Гоголь 1951, 93]. Иное направление принимают размышления маленького героя, нашедшего связанное с его собственными фантазиями применение названной сумме: «Раздеваемый нянькой, я думал о том, что нам делать с этим выигрышем. Мы могли бы купить себе бричку и покатить в город Эн. Там нас полюбили бы. Я подружился бы там с Фемистоклюсом и Алкидом Маниловыми» [Добычин 2013, ИЗ]. Ему для счастья нужно было бы встретиться и подружиться со своими ровесниками из города Эн, где его с родителями, уверен он, полюбили бы. И уверенности его как будто отвечает, если не чувствовать авторскую иронию, описание в поэме жителей города, которые «...все были народ добрый, жили между собою в ладу, обращались совершенно по-приятельски...», так что «все было очень семейственно» [Гоголь 1951, 156].
Новым сюжетным ходом, связывающим с «Мертвыми душами» описываемые в романе события и вновь актуализирующим тему дружбы, становится сочинение героем и Сержем пьесы для домашнего спектакля, 232
который был дан на масленице в большой квартире родителей последнего: «На сцене была бричка. Лошади бежали. Селифан хлестал их. Мы молчали. Нас ждала Маниловка и в ней - Алкид и Фемистоклюс, стоя на крыльце и взяв друг друга за руки» [Добычин 2013, 118]. Спектакль поставлен не для того, чтобы стать сценической иллюстрацией поэмы; ход пьесы, следуя сюжету поэмы, но отклоняясь от гоголевского текста, воплощает мечты героя, в чьем воображении «.. .образ взявших друг друга за руки братьев служит аллегорией дружбы, которой резюмируется для него суть произведения Гоголя и которая одновременно является краеугольным камнем его собственной жизни» [Морар 2011, 51]. Маниловка в спектакле ждала не приобретателя, устремившегося туда в поисках мертвых душ, а героя с Сержем; образцом дружбы служат теперь для них не Чичиков с Маниловым, а его «миленькие», по слову Чичикова, дети, Алкид и Фемистоклюс, близкие герою по возрасту: старшему из них пошел «осьмой», а младшему уже «минуло шесть» [Гоголь 1951, 30].
В сознании рассказчика, смешивающего реальность литературную с окружающей реальностью, границы внутреннего мира поэмы размыкаются, так что становится возможной встреча с ее персонажами. Дело здесь не только в наивном восприятии изображаемого, не считающемся с его условностью, но и в усвоении юным читателем «Мертвых душ» принципов гоголевского мышления. Ведь у Гоголя «...все “может быть”», для него «...нереального и невозможного практически не существует» [Лотман 1996, 12]. Вот и герою идея покатить в город Эн совсем не кажется несбыточной. Начитавшись Гоголя, он теперь и видит мир по Гоголю, почему изображаемое им «.. .приобретает фантастический оттенок...» [Адамович 1938, 2].
Так, на первой странице романа возникает «внушительная дама в меховом воротнике», чье «смуглое лицо было похоже на картинку “Чичиков”»; у «дамы-Чичиков», как называет ее рассказчик, «в ушах висели серьги из коричневого камня с искорками» [Добычин 2013, 109]. Было отмечено, что под «картинкой» имеется в виду рисунок П. Боклевского из его альбома, посвященного гоголевским типам (см.: [Белоусов 2009, 137]). Но очевидно хоть и «достаточно отдаленное» [Щеглов 2007, 294], однако показательное портретное сходство дамы непосредственно с героем поэмы, носившим «фрак брусничного цвета с искрой» [Гоголь 1951, 21]. Это неслучайное сходство маркируется цветом камня, из которого сделаны серьги, и цветом фрака. Превращение Чичикова в «даму-Чичиков», оказавшуюся, как узнает герой, когда она с сыном явилась в гости, еще и матерью напугавшего его «Страшного мальчика» [Добычин 2013, 114], придает повествованию фантастический колорит, который усиливает ее сюжетная активность, напоминающая, пусть и отдаленно, о функциях дам в «Мертвых душах».
О герое поэмы и ее авторе рассказчик вспомнит потом по иному поводу, когда они с маман отправятся к знакомой в ее имение: «Труба винокурни стояла над ним. Мужики боронили. Вороны вертелись около них. Я представил себе путешествия Чичикова» [Добычин 2013, 140]. Пред ним, как и перед Чичиковым в его поездках к помещикам, возникают «виды известные» [Гоголь 1951, 22], о которых он знает по гоголевским описаниям. Другая известная рассказчику картина оживает в его памяти, когда он и маман возвратились с прогулки и, «...как “Гоголь в Васильевке”, посидели на ступенях крыльца» [Добычин 2013, 140] (Имеется в виду картина В.А. Волкова «Гоголь в Васильевке» («Гоголь в Васильевке слушает бандуриста») 1902 г, где Гоголь показан сидящим на крыльце и слушающим бандуриста. В примечаниях указано [Добычин 2013, 488], что речь идет о картине В.А. Волкова «Н.В. Гоголь в Васильевке» 1892 г, посвященной приезду писателя в Васильевку летом 1832 г, но на этой картине Гоголь изображен внутри дома, сидящим в кресле в комнате). Автор «Мертвых душ», отправляясь в имение своего отца, тоже наверняка видел, пока путешествовал, такого же рода виды, так что воспоминание о картине пришлось к месту.
В «Мертвых душах» был выведен, по замечанию критика, современника Гоголя, «фантастический русский город», представляющий собой «целый мир бессмыслицы» [Шевырев 1982, 58]. Город в романе Добычи-на, как его описывает рассказчик, чему способствует приобретенный им читательский опыт, порождающий соответствующие ассоциации, тоже может быть назван фантастическим. Разного рода фантастические оттенки придают изображению города наблюдения рассказчика, основанные на его читательских впечатлениях: «В окна был виден закат, и я думал, что, должно быть, это и есть цвет наваринского пламени с дымом» [Добычин 2013, 126]. Герой знаком как с первым, так и со вторым томом поэмы, где Чичиков как раз и предстает «в новом фраке» [Гоголь 1951, 105] такого точно цвета, то есть желто-зелено-коричневого с красной искрой, ассоциативно сближающего один фантастический город с другим.
Характеризующую городскую жизнь «бессмыслицу» демонстрируют у Добычина, как и у Гоголя, способы времяпрепровождения жителей, например, заслоняющая другие интересы игра в карты: «Вечером прибыли гости, и мы рассказали им о резиновых шинах. - Успехи науки, - подивились они. Бородатые, как в “Священной истории”, они сели за карты» [Добычин 2013, 114]. Ср.: «На другой день Чичиков отправился на обед и вечер к полицеймейстеру, где с трех часов после обеда засели в вист и играли до двух часов ночи» [Гоголь 1951, 17]. Или бросающиеся в глаза необычные вывески и надписи: «На вывесках коричневые голые индейцы с перьями на голове курили» [Добычин 2013, 109]. Ср.: «...магазин с картузами, фуражками и надписью: “Иностранец Василий Федоров”» [Гоголь 1951, 11]. Или городские слухи и толки: так, у Гоголя предполагают, «не есть ли Чичиков переодетый Наполеон», которого англичане, завидующие России, что она «так велика и обширна» [Гоголь 1951, 205], выпустили, чтобы навредить ей. У Добычина также возникает тема вредоносности англичан: «господа», говоря о русско-японской войне, «толковали об Англии и осуждали ее» за то, что «помогает японцам» [Добычин 2013, 136]. Все эти характерные переклички передают сходную атмосферу жизни провин- циального города, гоголевского и добычинского, действительно отличающуюся специфической фантастичностью.
Эпизоды и ситуации гоголевской поэмы, если рассказчик не ссылается на них прямо, просвечивают в тексте в форме следов его читательской памяти, на что указывают как отмеченные переклички, так и сюжетные аналогии. Упомянув о смерти инженера Карманова, отца Сержа, он далее пишет: «Неожиданно я простудил себе горло, и мне не пришлось быть на похоронах. Из окна я смотрел на них. В шляпе “подводная лодка”, которая после окончания войны уже вышла из моды, маман шла с Кармановой. Сержа они от меня заслоняли» [Добычин 2013, 144]. Ср. у Гоголя о смерти прокурора и о Чичикове, получившем неожиданно «легкую простуду, флюс и небольшое воспаление в горле», почему «решился лучше посидеть денька три в комнате» [Гоголь 1951, 211]; при выезде из города бричку его остановила «бесконечная погребальная процессия», которую он «принялся рассматривать робко сквозь стеклышка, находившиеся в кожаных занавесках» [Гоголь, 1951, 219]. Если Чичикова, напуганного разнесшимися по городу слухами, беспокоит возможность быть узнанным, то добычинский герой, отметив только, что Сержа ему увидеть не удалось, никаких особых чувств в связи с картиной похорон не испытывает.
По мере взросления рассказчика в его сознании возникают новые и иные параллели с событиями, описанными в гоголевской поэме. На балу в училище ему передали амурное письмо: «“Отчего это”, - кто-то спрашивал в нем, - “вы задумчивы?” - Заинтересованный, я стал смотреть на все лица и, как Чичиков, силился угадать, кто писал» [Добычин 2013, 148]. Письмо не оставило его равнодушным, как и гоголевского героя (получившего любовное послание перед тем, как отправиться на бал): «Мечтательный, я вынимал из кармана записку, полученную на балу, и опять ее прятал» [Добычин 2013, 148-149]. Ср.: «В анониме было так много заманчивого и подстрекающего любопытство, что он перечел и в другой и в третий раз письмо и наконец сказал: “Любопытно бы, однако ж, знать, кто бы такая была писавшая!”» [Гоголь 1951, 161]. Но герой романа, подобно герою поэмы, так и остался в неведении, кто же была «сочинительница» [Гоголь 1951, 161].
Между тем рассказчик, не склонный более отождествлять себя с персонажами поэмы, сталкивается с навязываемым представлением об оценочном смысле их изображения: «“Слыхал ли ты, Серж, будто Чичиков и все жители города Эн и Манилов - мерзавцы? Нас этому учат в училище. Я посмеялся над этим”» [Добычин 2013, 147]. Приступая к биографии Чичикова, автор замечает, что «пора наконец припрячь и подлеца» [Гоголь 1951, 223]; подобная оценка, если ею ограничиться, дает, казалось бы, основание для трактовки, отвергаемой рассказчиком. Отвергаемой, потому что не готов к восприятию полюбившихся ему персонажей под углом зрения формального обличительства (ср.: [Белоусов 2009, 138]). Ведь и автор, изложив биографию Чичикова, отклоняет требование определить его в заключение «одною чертою» [Гоголь 1951, 241]. Вот и добычинский герой, хоть и оставивший в стороне прежнюю мечтательность, убежден, что и Чичиков с Маниловым, и жители города Эн вовсе не являются, как та учат, простым олицетворением порока.
Замечая, о чем он пишет Сержу, что уже становится «как большой» и что ему иногда «уже вспоминается детство» [Добычин 2013, 147], рассказчик не забывает ни о вере в собственные фантазии, ни о так привлекавшем его образе города-мечты. Когда же знакомая, выигравшая двести тысяч, собралась переселиться в новое место, потому что «там приличное общество», то вспомнил, как «думал когда-то, что мы, если выиграем, то уедем жить в Эн, где нас будут любить» [Добычин 2013, 155]. Посетив школьный «акт», посвященный столетию Гоголя, герой, расставшийся как будто с наивными иллюзиями, связанными с гоголевским городом и его обитателями, признается, что «был тронут» и «думал о городе Эн, о Манилове с Чичиковым, вспоминал свое детство» [Добычин 2013, 166]. И город своей мечты, куда ему «так хотелось поехать, когда» он «был маленький» [Добычин 2013, 171].
Между тем, превращаясь из маленького мальчика в подростка, захваченного новыми переживаниями, вызванными меняющимися внешними обстоятельствами, «разочарованный, ожесточенный, оттолкнутый», рассказчик «уже не соблазнялся примером Манилова с Чичиковым» и даже «издевался над дружбой» [Добычин 2013, 170]. Он фиксирует, не пытаясь осмыслить, что же с ним происходит, как легко поддается злым чувствам и мыслям, думая о мести учителю чистописания, из-за которого его посадили «в карцер на час» [Добычин 2013, 137], и радуясь вместе с другими учениками, узнав, что попечитель учебного округа, которого они боялись, не явится на экзамен, потому что «кто-то убил его камнем» [Добычин 2013, 181]. Так ближе к финалу неожиданно актуализируется в сюжете романа тема происхождения зла, затронутая в «Мертвых душах» при описании биографии Чичикова (см.: [Кривонос 2019, 116]), но не привлекшая ранее внимание юного читателя, увлеченного собственными фантазиями. Что же касается открытого финала, где рассказчик, случайно узнавший о своей близорукости и впервые надевший очки, обретает новое зрение и думает, что «до этого все», что видел, «видел неправильно» [Добычин 2013, 182], то он знаменательным образом перекликается с открытым финалом гоголевской поэмы, не ставящим окончательную точку в истории главного героя.