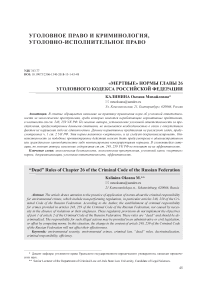"Мертвые" нормы главы 26 Уголовного кодекса Российской Федерации
Автор: Калинина Оксана Михайловна
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
Статья в выпуске: 1 т.15, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье обращается внимание на практику применения норм об уголовной ответственности за экологические преступления, среди которых имеются неработающие нормативные предписания, в частности ст.ст. 248, 259 УК РФ. По мнению автора, установление уголовной ответственности за преступления, предусмотренные данными статьями, не вызывается необходимостью в связи с отсутствием фактов их нарушения либо их единичностью. Данные нормативные предписания не реализуют задач, предусмотренных ч. 1 ст. 2 УК РФ. Эти нормы являются «мертвыми», и их следует декриминализировать. Ответственность за подобные противоправные действия может быть предусмотрена в административном или гражданском законодательстве либо компенсирована конкурирующими нормами. В сложившейся ситуации, по мнению автора, изменение содержания ст.ст. 248, 259 УК РФ не повлияет на их эффективность.
Экологическая безопасность, экологические преступления, уголовный закон,
Короткий адрес: https://sciup.org/143163683
IDR: 143163683 | УДК: 343.77 | DOI: 10.19073/2306-1340-2018-15-1-45-48
Текст научной статьи "Мертвые" нормы главы 26 Уголовного кодекса Российской Федерации
Глава 26 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) предусматривает уголовную ответственность за совершение преступлений, направленных на экологическую безопасность нашего государства. Несмотря на длительность существования УК РФ и сложившуюся практику его применения, следует констатировать, что часть норм об уголовной ответственности за совершение экологических преступлений не находит практической реализации.
По мнению И. В. Попова, статистика по делам об экологических преступлениях (за исключением браконьерских составов – ст.ст. 256, 258 и 260, ч. 2 ст. 253 УК РФ) демонстрирует несовершенство уголовного закона. Соответственно, число осужденных по таким делам исчисляется единицами [9, с. 6]. М. М. Бабаев, Е. Ю. Пудо-вочкин утверждают, что все нормы глав о преступлениях против безопасности государства, против мира и безопасности человечества являются неработающими; кроме того, большой удельный вес неработающих статей демонстрируют главы о преступлениях против военной службы, против безопасности дорожного движения, против конституционных прав и свобод человека и гражданина, против экологической безопасности [1, с. 159].
Среди неработающих, иначе «мертвых», норм в числе экологических преступлений можно назвать ст.ст. 248 и 259 УК РФ1, предусматривающих уголовную ответственность соответственно за нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами и уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Например, с 2009 по 2016 г. число осужденных по этим статьям равнялось нулю2.
Похожая ситуация наблюдалась с применением этих норм и ранее. Так, М. А. Лапина утверждает, что норма (речь идет о ст. 248 УК РФ) не применяется многие годы. По данным ГИЦ МВД России (форма 1-Г), не было зарегистрировано ни одного преступления как в 1998– 1999 гг., так и в 2000 г. [4, с. 67]. Относительно ст. 259 УК РФ вышеназванный автор отмечает, что, по данным ГИЦ МВД России (форма 1-Г), не было зарегистрировано ни одного преступления в 1998–1999 гг., а в 2000 г. – 2 преступления.
Анализ применения данной нормы действующего УК РФ показывает, что она редко используется на практике [4, с. 145]. Н. А. Лопашенко утверждает, что за все время действия УК РФ 1996 г. по ст. 248 не было возбуждено ни одного уголовного дела [6, с. 79]. Этот же автор относительно применения ст. 259 отмечает, что в 1997–1999 гг. в России так же не было возбуждено ни одного уголовного дела. В 2000 г. официальная статистика зафиксировала возбуждение 2 уголовных дел [6, с. 214].
И. В. Попов приводит сведения, что за период 2009–2012 гг. по ст. 248 УК РФ не было зарегистрировано ни одного преступления. По ст. 259 УК РФ в 2010 г. зарегистрировано одно преступное деяние, в 2012 г. – два преступления, но в суд ни одного дела не направлено [9, с. 8]. С точки зрения А. В. Иванчина, правотворец объявляет преступлениями только те деяния, с которыми иными правовыми (неуголовными) средствами бороться невозможно. При установлении уголовно-правового запрета он рассчитывает, что запрещаемые им деяния длительный период времени будут представлять общественную опасность [2, с. 27]. Подобное обстоятельство, как мы видим, не характерно для составов, предусмотренных ст.ст. 248, 259 УК РФ.
В связи с тем что данные нормы могут быть отнесены к числу неработающих, возникает вопрос, связанный с возможностями реализации этими нормативными предписаниями задач, которые ставит перед собой уголовный закон в ч. 1 ст. 2. В частности, задачами УК РФ являются «охрана благ и законных интересов от преступных посягательств и предупреждение преступлений» [5, с. 57]. Следовательно, можно предположить3, что если нет преступных посягательств, то соответствующий объект уголовно-правовой охраны не страдает и нет необходимости в его защите уголовно-правовыми средствами.
Предупреждение преступлений также одна из задач уголовно-правовой нормы. Как отмечает В. Д. Филимонов, эта цель может быть достигнута путем соответствующего воздействия на лиц, способных их совершить [11, с. 26]. На наш взгляд, данные нормы не в полной мере реализуют вышеуказанную задачу. Деяния, предусмотренные ст.ст. 248, 259 УК РФ, отнесены законодателем к категории небольшой тяжести. Лишь ч. 2 ст. 248 УК РФ оценивается как преступление средней тяжести.
На наш взгляд, последствия, описанные в данных нормах, несопоставимы с теми санкциями, которые предусмотрены за совершение вышеназванных преступлений. В качестве последствий законодатель называет соответственно причинение вреда здоровью человека, распространение эпидемий или эпизоотий, иные тяжкие последствия, смерть человека по неосторожности, гибель популяций организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Кроме того, следует заметить, что сложившаяся практика назначения наказаний за экологические преступления свидетельствует о том, что суды, как правило, ограничиваются применением к виновным условного осуждения, к исправительным работам или лишению свободы, «забывая» о существовании реального наказания. Как известно, «этот институт в уголовном праве все-таки имеет низкую эффективность» [10, 448]. Допускаем, что предупредительный эффект данных норм сведен законодателем к минимуму.
В связи с изложенным следует согласиться с мнением Н. Ф. Кузнецовой, утверждавшей, что «социально обоснован закон, который эффективен, т. е. выполняет охранительные и предупредительные задачи, а также достигает целей наказания… Неэффективен такой закон, который ввиду его конструктивных недостатков не применяется либо редко применяется к реально существующей преступности. Справедлив закон криминологически обоснованный, т. е. нацеленный на сокращение преступности исходя из ее уровня, динамики, структуры и прогноза» [3, с. 74].
Полагаем, что в современном уголовном законодательстве данные нормы являются излишними. Установление ответственности за деяния, предусмотренные ст.ст. 248, 259 УК РФ, на наш взгляд, не вызывается необходимостью в связи с отсутствием фактов их нарушения либо их единичностью. Поэтому считаем возможным декриминализировать эти деяния.
Отмена норм – это, безусловно, кардинальный шаг, на который сложно решиться. Как ут- верждает В. В. Лунеев, процесс криминализации в России доминирует над процессом декриминализации, и вряд ли это может быть оценено исключительно позитивно. С точки зрения данного автора, нужно законодательным путем очистить Уголовный кодекс от деяний, которые могут быть разрешены в процессе административного судопроизводства, мировыми судьями, товарищескими судами, примирительными производствами, гражданско-правовой ответственностью и т. д. [7, с. 87].
По мнению А. М. Яковлева, имеются два различающихся между собой основания декриминализации, среди которых автор называет признание законности того вида поведения, за которое ранее наступала юридическая ответственность, а также возможность и целесообразность реагирования на подобные акты не в форме уголовного наказания, а путем применения альтернативных видов социального (государственного и общественного) реагирования. К их числу А. М. Яковлев относит административную и гражданско-правовую ответственность, организационные, лечебные, воспитательные, просветительные и иные меры [8, с. 183].
Вряд ли, конечно, можно говорить о признании законными действий, предусмотренных в ст.ст. 248, 259 УК РФ, но перевод подобных деяний в разряд административных правонарушений или гражданско-правовых деликтов, на наш взгляд, вполне возможен. Кроме того, считаем, что декриминализация составов, предусмотренных ст.ст. 248, 259 УК РФ, вполне может быть компенсирована и уголовной ответственностью конкурирующих с ними норм (например, ст.ст. 246, 247, 249, 257, 261, 262 УК РФ).
Вряд ли решит проблему «мертвых» норм изменение их содержания. Изменять то, что не применяется, с нашей точки зрения, не всегда имеет смысл. В связи с этим следует согласиться с точкой зрения А. В. Иванчина, согласно которой эффективность применения правовой нормы, конечно же, зависит от законодательной техники, от того, насколько искусно отработаны содержание и форма данной нормы. Однако крайне принципиальное значение имеет, как представляется, и правильное определение сущности правовой нормы, достижение соответствия законодательной воли объективным реалиям. Уголовно-правовые предписания, не обусловленные социально, являются мертворожденными. Следовательно, вполне мыслимо создание совершенного с точки зрения законодательной техники права, но не работающего на практике [2, с. 26].
Подводя итог сказанному, хочется отметить, что принятие взвешенных и обоснованных решений в сфере правотворчества является основополагающей задачей современного законодателя, от воли которого зависят качество уголовного закона и эффективность правоприменительной практики. Не должны быть исключением из этого и нормы об уголовной ответственности за экологические преступления, где доля неработающих норм сегодня остается достаточно высокой.
Список литературы "Мертвые" нормы главы 26 Уголовного кодекса Российской Федерации
- Бабаев М. М., Пудовочкин Е. Ю. Проблемы российской уголовной политики. М.: Проспект, 2014. 291 с.
- Иванчин А. В. Конструирование состава преступления: теория и практика: моногр./отв. ред. Л. Л. Кругликов. М.: Проспект, 2014. 352 с.
- Курс уголовного права. Общая часть: учеб./под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М.: Зерцало-М, 2002. Т. 1: Учение о преступлении. 624 с.
- Лапина М. А. Юридическая ответственность за экологические правонарушения: постат. коммент. к рос. законодательству. М.: Экзамен, 2003. 288 с.
- Лопашенко Н. А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 339 с.
- Лопашенко Н. А. Экологические преступления: коммент. к гл. 26 УК РФ. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. 802 с.
- Лунеев В. В. Уголовное законодательство и общественно опасные реалии//Государство и право на рубеже веков. Криминология, уголовное право, судебное право: материалы всерос. конф. М.: ИГиП РАН, 2001. С. 82-88.
- Основания уголовно-правового запрета (криминализация и декриминализация)/отв. ред.: В. Н. Кудрявцев, А. М. Яковлев. М.: Наука, 1982. 303 с.
- Попов И. В. Преступления против природной среды: теоретические основы и практика применения: дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2014. 451 с.
- Уголовное право. Общая часть: учеб. для вузов/отв. ред.: И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова. М.: Норма: Инфра-М, 1998. 516 с.
- Филимонов В. Д. Криминологические основы уголовного права. Томск: Изд-во ТГУ, 1981. 214 с.