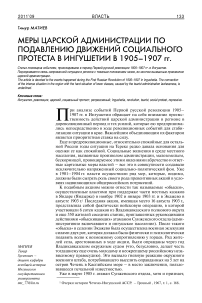Меры царской администрации по подавлению движений социального протеста в Ингушетии в 1905-1907 гг
Автор: Матиев Тимур Хусенович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 9, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена событиям, происходившим в период Первой русской революции 1905-1907 гг. в Ингушетии. Подчеркивается связь напряженной ситуации в регионе с тяжелым положением низов, во многом вызванным произволом царской администрации.
Ингушетия, революция, царский, социальный протест, репрессивный
Короткий адрес: https://sciup.org/170166000
IDR: 170166000
Текст научной статьи Меры царской администрации по подавлению движений социального протеста в Ингушетии в 1905-1907 гг
П ри анализе событий Первой русской революции 1905– 1907 гг. в Ингушетии обращает на себя внимание преемственность действий царской администрации в регионе в дореволюционный период и тех усилий, которые ею предпринимались непосредственно в ходе революционных событий для стабилизации ситуации в крае. Важнейшим объединяющим их фактором является приоритетная ставка на силу.
Е-ще в предреволюционные, относительно спокойные для остальной Р-оссии годы ситуация на Тереке редко давала основания для оценки ее как спокойной. Социальные волнения в среде местного населения, вызванные произволом администрации, малоземельем, бескормицей, провоцируемое этими явлениями абречество и ответные картельные меры властей – все это в совокупности создавало исключительно напряженный социально-политический фон. Уже в 1901–1904 гг. власти осуществили ряд мер, которые, видимо, должны были сыграть роль своего рода превентивных акций в условиях надвигающихся общероссийских потрясений.
МАТИЕВ Тимур
К подобным акциям можно отнести так называемые «обыски», осуществленные властями при поддержке части местных казаков в Яндаре (Яндырке) в ноябре 1902 и январе 1903 гг. и в Экажево в августе 1903 г.1 Последняя акция, имевшая место 16 августа 1903 г., представляла собой фактически войсковую операцию, в которой участвовали 6 сотен казаков из Владикавказского полкового округа и еще 350 жителей соседних станиц, приглашенных руководившим действиями «обыскивающих» атаманом Сунженского отдела (административно включавшего и ингушское население). После такого «обыска» в селении Экажево была осуществлена военная экзекуция силами двух рот, которая должна была физически и психологически подавить волю к возможному сопротивлению у горцев. Р-яд жителей села, арестованных в ходе акции, были оправданы через год Владикавказским окружным судом (что, безусловно, делает честь тогдашнему еще очень молодому и неокрепшему российскому независимому правосудию). Это вызвало гневную реакцию окружного военного штаба, потребовавшего выселить оправданных на 5 лет на остров Ч-ечень в Каспийском море – в место заключения, пользовавшееся печальной известностью.
Уже в марте 1905 г. атаман Сунженского отдела, хотя и признает, что «поголовного восстания ингушей не может быть», тем не менее ввиду «серьезного положения» просит предоставить для вооружения станиц и хуторов еще 5 тысяч винтовок и 1 миллион (!) боевых патронов, ссылаясь на недостаточность для 7 тысяч казачьего населения уже имеющихся 2 725 винтовок1.
Усиливалось и военное присутствие в селах Ингушетии. 12 и 17 мая 1905 г. в А-чалуки и Сагопши были введены, соответственно, одна и две казачьи сотни. В рапорте атамана Сунженского отдела начальнику Терской области и наказному атаману Терского казачьего войска за № 9092 от 16 мая 1905 г. говорилось: «Поставленные сотни в селении Сагопши наряду с охранением хуторян от разбойнических набегов горцев будут в то же время иметь наблюдение за жителями воровских селений Сагопши, Кескем, Пседах, откуда и комплектуются шайки грабителей…»2, т.е. они должны были осуществлять военно-полицейский контроль почти за всей Северной Ингушетией.
Той же весной в селе Сурхахи за самовольный захват усадебных и пахотных земель были преданы суду 18 чел. А- 13 сентября 1905 г. целый батальон в составе 305 солдат при 10 офицерах был командирован для экзекуции в селения Долаково и Кантышево Назрановского округа. Формальным поводом стало крушение поезда между Б-есланом и Назранью. Хотя в ходе этой акции единственным погибшим стал пассажир-ингуш, ответственность была возложена на жителей Кантышева и Долакова.
Увеличение присутствия в Ингушетии регулярных войск, достигшего особенно внушительных размеров после начала А-лагирского восстания в Осетии в декабре 1905 г., никак не способствовало стабилизации положения. Зачастую призванные по идее поддерживать порядок армейские части сами становились организаторами беспорядков, это, например, произошло при следовании в октябре 1905 г. по Владикавказской железной дороге состава с призванными из запаса солдатами. 7 октября состав с буйствовавшими запас- никами достиг Назрани, и они нагрянули в близлежащие селения. Ингуши оказали грабителям сопротивление, и в результате были жертвы с обеих сторон. Следует отметить, что такие же инциденты имели место и в Ч-ечне, а также в Осетии. Столь вопиющий случай можно было бы отнести целиком на счет морального разложения армии, только что проигравшей войну и уже изрядно подвергшейся несовместимому с традиционной дисциплиной революционному влиянию. Но этому мешает факт откровенного попустительства бесчинствам запасников со стороны властей и подчиненных им сил, о чем открыто говорилось в секретном жандармском отчете о событиях, в частности в Грозном. А-втор отчета пишет: «При подавлении беспорядков как администрацией, так и начальниками войсковых частей была проявлена полная нерешительность». Представители местных властей не только попустительствовали погромам, но и принимали в них участие3.
Провозглашение Манифеста 17 октября мало повлияло на ситуацию в области. После того, как 24 октября в Ч-ечне было объявлено военное положение, в Грозном, Владикавказе и других городах Северного Кавказа были открыты временные военно-полевые суды. В Терской области формально атаманы отделов и станиц, а фактически – любой казак могли произвести обыск и «разоружить» горца, забрать у него кинжал, саблю, которые являлись традиционной частью костюма и дорогой семейной реликвией.
В 1905 г. росло число проявлений откровенной нелояльности горцев к администрации и ее представителям на местах. 6 июня жители села Долаково (Назрановский округ) со словами: «не надо сельского правления и не надо церкви» закрыли и опечатали двери сельской канцелярии4. На сходах разных селений крестьяне требовали возврата земель, раньше принадлежавших ингушским обществам, а затем перешедшим в ведение управления государственных имуществ.
К началу зимы 1905 г. относятся уже более серьезные столкновения местных жителей с властями в ингушских селах. 23
декабря при очередной попытке разоружить горцев в селении Б-арсуки был убит начальник Назрановского округа подполковник Митник, ехавший для участия в примирении кровников1. Наверняка гибель высокопоставленного чиновника в Ингушетии, наряду с продолжающейся с 8 декабря забастовкой железнодорожников и вспыхнувшим 21 декабря А-лагирским крестьянским восстанием, сыграла роль во введении 23 декабря военного положения во всей Терской области. Начальнику области были даны чрезвычайные полномочия военного генерал-губернатора. Б-ыли введены запреты на ношение оружия, на создание союзов, обществ без разрешения генерал-губернатора в каждом отдельном случае, на митинги, собрания и прочие «сборища». За «оскорбление» военных предусматривалась угроза применения оружия. Временный генерал-губернатор области генерал Колюбакин распорядился отпустить с Георгиевского военного склада 10 тыс. берданок и к ним миллион боевых патронов для вооружения казачьих станиц2.
Напряжение росло, и весной следующего, 1906 г. вылилось в одно из самых кровавых столкновений, имевших место на территории Ингушетии в период 1905– 1907 гг., – в селении Яндаре (Яндырке).
События в Яндаре были вынесены на обсуждение молодого российского парламента, что было очень важным как для самой Думы, стремившейся укрепиться на российской политической арене в качестве реального противовеса неограниченному произволу полиции и охранки, так и для Ингушетии и для всей Терской области.
Тем не менее целиком опираться на силу на Кавказе уже во второй половине 1905 г. власти не могли. Уступки, на которые они пошли в центре, были в какой-то мере сделаны и населению Терской области. Одной из важнейших для Ингушетии была реформа территориального устройства области, предпринятая в июне 1905 г. Б-ыл восстановлен Назрановский округ, включивший ингушей из Сунженского отдела.
Таким образом, в Ингушетии и на других территориях Терской области власти империи проводили политику лавирования, сочетая некоторые уступки с жестким силовым давлением на недовольных, особенно на активную их часть. Перманентно неспокойная, к тому же относительно недавно (всего около четырех десятилетий назад) замиренная окраина рассматривалась как потенциально особенно опасная в смысле подверженности ее революционному влиянию. Соответственно, априори считался необходимым более жесткий подход не только в качестве реакции на малейшее недовольство, но и как профилактическая мера. То, что подобный подход относительно оправдал себя в 1905–1907 гг., очевидно, стало главной причиной того, что в последующие годы, в т.ч. и в период революций 1917 г. и последовавшей Гражданской войны, царскими властями и затем белогвардейскими администрациями применялись различные его модификации, но уже без прежнего успеха.