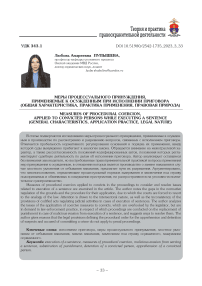Меры процессуального принуждения, применяемые к осужденным при исполнении приговора (общая характеристика, практика применения, правовая природа)
Автор: Пупышева Л.А.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 3 (52), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье подвергаются исследованию меры процессуального принуждения, применяемые к осужденным в производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. Отмечается пробельность нормативного регулирования оснований и порядка их применения, ввиду которой суды вынужденно прибегают к аналогии закона. Обращается внимание на межотраслевой характер, а также рассогласованность положений кодифицированных актов, положения которых регламентируют судебную деятельность по делам об исполнении приговора. Автор анализирует оставшиеся без внимания законодателя, но востребованные правоприменительной практикой вопросы применения мер принуждения к осужденным, в отношении которых ведется производство о замене наказания в случае злостного уклонения от отбывания наказания, предлагает пути их разрешения. Аргументировано, что законоположения, определяющие процессуальный порядок задержания и заключения под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, не распространяются на уголовно-исполнительное судопроизводство.
Исполнение приговора, меры процессуального принуждения, злостное уклонение от отбывания наказания, замена наказания, заключение под стражу осужденного, задержание осужденного
Короткий адрес: https://sciup.org/140301950
IDR: 140301950 | УДК: 343.1 | DOI: 10.51980/2542-1735_2023_3_33
Текст научной статьи Меры процессуального принуждения, применяемые к осужденным при исполнении приговора (общая характеристика, практика применения, правовая природа)
П роизводство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, с точки зрения качества правового регулирования является наиболее проблемным среди всех уголовно-процессуальных производств. В частности, предусматривая возможность применять в данном производстве меры принуждения, законодатель крайне непоследовательно подошел к нормативной регламентации порядка их избрания и применения. При этом в немногочисленных законоположениях отсутствуют легально определенные основания, условия и порядок применения мер принуждения к осужденным, в отношении которых компетентными учреждениями или органами внесены представления об изменении уголовно-правового воздействия (о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания). Другими словами, действующее законодательство фактически не предусматривает правовых средств пресечения противоправных действий участников уголовно-исполнительного судопроизводства1, обеспечения явки осужденного в судебное заседание. Очевидно, что такой критический дефицит правовых предписаний вынуждает правоприменителя использовать по аналогии нормы раздела IV УПК РФ, предназначенного для производства по уголовному делу (основного уголовно-процессуального производства).
В теории и науке уголовного процесса особенности применения мер принуждения при исполнении приговора в разной степени получили освещение в работах проф. В.В. Николюка [13; 16-19], Б.Б. Булатова, С.И. Вершининой, К.В. Муравьева, А.Б. Ди-ваева, Л.В. Ложкиной [2-6; 9-12] и других авторов. Исследователи справедливо отмечают, что «меры пресечения, применяемые к осужденным в стадии исполнения приговора, преследуют иные цели – это прекращение противоправного поведения осужденного, уклоняющегося от исполнения наказания. Здесь специфичны не только цели и порядок принудительного воздействия, субъект принуждения, но и сфера применения мер пресечения – стадия исполнения приговора» [7, с. 31].
Меры принуждения, применяемые в уголовно-исполнительном судопроизводстве, имеют принципиальные отличия от мер, установленных упомянутым разделом УПК РФ. Их ключевая особенность состоит в межотраслевой нормативной регламентации – наряду с нормами уголовно-процессуального закона в механизм их правового регулирования включены нормы уголовно-исполнительного законодательства. Подчеркнем, что в основном производстве меры процессуального принуждения применяются в отношении достаточно широкого круга участников (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и др.), в уголовно-исполнительном судопроизводстве они распространяются только на лицо, в отношении которого оно ведется (осужденного).
Для производства по делам об исполнении приговора УИК РФ и УПК РФ предусматривают две меры процессуального принуждения – задержание и заключение под стражу осужденного. При этом указанные правовые инструменты обеспечения надлежащего поведения осужденного и пресечения его противоправных действий предусмотрены исключительно для случаев замены определенных видов наказаний2 на лишение свободы в случае злостного уклонения от их отбывания. В остальных случаях, например в производстве по представлениям об отмене условного осуждения, отмене условно-досрочного освобождения, их применение к осужденным незаконно.
Сразу оговоримся, что основания для задержания подозреваемого и избрания меры пресечения, установленные соответственно ст. 91 и ст. 97 УПК РФ, не пригодны для уголовно-исполнительного судопроизводства, поэтому при применении мер принуждения по делам о замене наказания у судов остает- ся только один вариант – использовать положения уголовно-исполнительного законодательства. С определенной долей условности можно предположить, что фрагментарное указание на соответствующие основания содержатся в п.п. 18 и 18.1 ст. 397 УПК РФ.
Несмотря на то, что для производства по делам о замене наказания в качестве мер принуждения законом предусмотрены только задержание и заключение под стражу осужденного, в соответствующей сфере правоприменения встречаются случаи использования других мер. Например, по делам о замене наказания на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении имеет место избрание судами в отношении осужденных меры пресечения в виде подписки о невыезде, установленной ст. 102 УПК РФ. В подобных случаях идет речь о применении судами закона по аналогии. Однако из системного толкования положений гл. 13 УПК РФ с очевидностью следует, что она может быть избрана исключительно в отношении преследуемого лица (обвиняемого (подозреваемого) в совершении преступления), исходя из чего нормативно установлены основания и условия ее применения. Можно предположить, что, принимая такое решение, суд руководствуется необходимостью обеспечения правомерного поведения осужденного. В данном случае – его явки для получения предписания и дальнейшего следования в колонию-поселение для отбывания наказания.
Кроме того, в уголовно-исполнительном судопроизводстве востребованной правоприменительной практикой является иная мера процессуального принуждения – привод (ст. 113 УПК РФ). При этом вопрос о том, выступает ли цель применения иных мер процессуального принуждения, сформулированная законодателем в ч. 1 ст. 111 УПК РФ, основанием для их применения в производстве, предусмотренным гл. 47 УПК РФ, является открытым и по меньшей мере дискуссионным при том, что в уголовно-процессуальной теории предпринимались попытки выявить специфику применения указанной меры в производстве по делам об исполнении приговора [5].
Если допустить здесь возможность применения принудительного доставления лица в суд в случае его неявки без уважительных причин (привода), то необходимо учитывать, что, во-первых, он не может использоваться должностными лицами ФСИН России для осуществления контроля за осужденными; во-вторых, адресатом указанной меры фактически может быть только осужденный; в-третьих, привод может применяться исключительно для обеспечения явки осужденного в суд.
Характеризуя состояние правового регулирования мер принуждения, применяемых в уголовно-исполнительном судопроизводстве, следует обратить внимание не только на его межотраслевой (комплексный) характер и пробельность, но и на противоречивость норм УПК РФ и УИК РФ, в результате чего «задержание» и «заключение под стражу» смешиваются и отождествляются друг с другом. Уголовно-исполнительное законодательство устанавливает основания для задержания осужденного (здесь и далее выделено мною. – Л.П.) без учета сущностных признаков задержания в его конституционном и уголовно-процессуальном смысле (неотложность и относительная кратковременность), обуславливающих порядок его применения в производстве по уголовному делу. Кроме того, задержание подозреваемого применяется для установления причастности лица к совершению преступления и решения вопроса о необходимости применения меры пресечения, то есть задержание всегда предшествует заключению под стражу. Из этого с очевидностью следует, что различия между задержанием осужденного при исполнении приговора и задержанием подозреваемого (в контексте их сущности и назначения) далеко не ограничиваются степенью и временем ограничения конституционных прав личности.
О правовой природе задержания осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания, наиболее четко высказался проф. В.В. Николюк, указавший, что предусмотренное УИК РФ задержание осужденных является самостоятельным, наряду с уголовно-процессуальным и административным (полицейским), видом задержания, имеющим уголовно-исполнительный характер; его цель – пресечь уклонение осужденного от отбывания наказания и обеспечить его участие в судебном заседании при рассмотрении вопроса о замене назначенного ранее наказания более строгим, отмене отсрочки отбывания наказания осужденным, больным наркоманией [15, с. 161]. В пользу такого подхода свидетельствует и то, что нормы именно уголовно-исполнительного законодательства (ч. 2 ст. 30, чч. 4 ст. ст. 32, 46, ч. 6 ст. 58, ч. 4 ст. 60.2, ч. 2 ст. 60.17, ч. 6 ст. 75.1, ч. 9 ст. 178.1УИК РФ) составляют правовую основу задержания осужденного при исполнении (включая продление судом срока задержания осужденных).
Однако в доктрине аргументирована иная точка зрения, согласно которой задержание осужденного является разновидностью уголовно-процессуального задержания и, соответственно, подлежит законодательному оформлению в УПК РФ [8; 10; 21].
Как уже было отмечено ранее, по делам об исполнении приговора задержание и заключение под стражу осужденного используются для обеспечения его явки в судебное заседание. Причем легально предусмотрен как общий срок задержания (до 48 часов), так и возможность продления судом указанного срока на достаточно длительный период – до 30 суток. При этом закон, наделяя суд таким полномочием, не определяет конкретных обстоятельств, которые надлежит учитывать при продлении срока задержания, что ставит под сомнение законность и обоснованность содержания осужденного в таких случаях под стражей.
В соответствующих нормах УИК РФ одновременно предусмотрены и продление 48-часового срока задержания осужденного до 30 суток, и заключение осужденного под стражу на тот же срок. В УПК РФ при этом говорится о заключении под стражу осужденного.
Сопоставляя содержание законоположений УИК РФ и УПК РФ, предусматривающих изоляцию задержанного осужденного по решению суда до 30 суток, В.В. Николюк справедливо обращает внимание на наличие проблемы выбора надлежащей судебной процедуры задержания (ареста) и исчисления предельного срока нахождения осужденного под стражей до рассмотрения в суде представления о замене наказания, резюмируя, что предпочтение должно быть отдано варианту, согласно которому в законе надлежит предусмотреть задержание осужденного на срок до 48 часов и заключение под стражу осужденного, скрывавшегося в целях уклонения от отбывания наказания, – на срок до 30 суток [14, с. 117, 126]1.
Некоторыми исследователями обосновывается противоположная точка зрения, состоящая в том, что применительно к п.п. 18 и 18.1 ст. 397 УПК РФ правильнее вести речь о продлении срока задержания осужденного, аргументируя ее тем, что заключение под стражу является мерой уголовно-процессуального пресечения, применяемой к подозреваемым, обвиняемым в совершении преступлений, а в данном случае лицо, уклоняясь от отбывания уголовного наказания, никакого преступления не совершает [21, с. 298].
Отметим также, что в законе нет указания на субъекты, уполномоченные применять меры процессуального принуждения в отношении осужденных. Обозначенные пробелы правового регулирования и связанные с ними проблемы правоприменительной практики осложняются необходимостью определения границ и пределов регулирования соответствующих правоотношений конкурирующими кодифицированными актами (УПК РФ и УИК РФ). Если говорить о задержании подозреваемого, то властные участники уголовного процесса, уполномоченные на его применение, определены п. 11 ст. 5 и ч. 1 ст. 91 УПК РФ. Для задержания осужденных такие субъекты в законе не оговорены.
Отдельно укажем, что юридический термин «задержание» для уголовного судопроизводства имеет особое значение, поскольку ограничение конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность задержанного лица и его содержание под стражей может продолжаться относительно длительное время (до 48 или даже 120 часов); степень правоограничения настолько велика, что содержание под стражей засчитывается в срок наказания; традиционно посредством задержания лицу придается процессуальный статус подозреваемого, предполагающий совокупность прав, достаточную для защиты от уголовного преследования (подозрения).
Оценивая законодательный подход о продлении судом срока задержания осужденного судом на срок до 30 суток, реализованный в УИК РФ, нельзя не сказать о том, что, исходя из буквального понимания конституционных установлений (ч. 2 ст. 22 Конституции РФ), задержание как мера государственного принуждения носит внесудебный характер, в связи с чем отсутствует необходимость наделять суд полномочиями на задержание подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступления. В то же время с учетом высокой вероятности возникновения в ходе уголовного судопроизводства неординарного развития событий (прежде всего невозможности достижения целей задержания в установленный по общему правилу срок) законодатель вынужденно «привлекает» суд к продлению сроков задержания. Речь идет о ситуациях, обозначенных в п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ, ч. 7. ст. 106 УПК РФ. Еще один случай продления судом срока задержания подозреваемого, обвиняемого обозначен в п. 16 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 19 декабря 2013 г. N 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога».
Несмотря на регулирование уголовно-исполнительным законодательством полномочий суда на продление срока задержания осужденных, целесообразность исследования данного вопроса с точки зрения уголовного процесса обусловлена, в первую очередь, попытками ученых обосновать уголовно-процессуальную природу задержания осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания, подразумевающую его законодательное оформление в УПК РФ [8; 10; 21]1.
Задержание осужденного упомянуто в ч. 4.1 ст. 396, п. 3 ч. 1 ст. 399 УПК РФ, устанавливающих, что вопросы о заключении под стражу осужденного на срок до 30 суток (п.п. 18 и 18.1 ст. 397 УПК РФ) разрешаются судом по месту задержания осужденного.
Об объективной взаимосвязи задержания и заключения под стражу осужденного свидетельствует содержание отдельных положений УИК РФ, предусматривающих продление 48-часового срока задержания осужденного до 30 суток и заключение под стражу осужденного на тот же срок, а также уголовно-процессуальных норм (п.п. 18 и 18.1 ст. 397 УПК РФ), использующих категорию «заключение под стражу».
Очевидно, что четкое понимание полномочий суда на продление срока задержания осужденного, скрывавшегося в целях уклонения от отбывания наказания, имеет важное сугубо прикладное значение. Формально-логическое толкование чч. 6 и 7 ст. 58, чч. 4 и 5 ст. 60.2 УИК РФ позволяет заключить, что осужденный задерживается на срок до 48 часов с последующим судебным его продлением до 30 суток; по истечении срока задержания осужденный заключается под стражу еще до 30 суток, в результате чего срок содержания под стражей осужденного достигает 60 суток.
Указанное наглядно демонстрирует рассогласованность норм уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства о задержании и заключении под стражу осужденного1. Обеспечить их синергичность объективно невозможно без выявления правовой природы данных мер. Отметим, что действующий УПК РФ не воспринимает задержание осужденного, регламентированное уголовно-исполнительным законодательством, в качестве «родного» правового института. В этом отношении принципиально важно отметить, что в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ о задержании и заключении под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания, не упоминаются судебные постановления о продлении срока задержания осужденного, акцент смещен в сторону рассмотрения представлений о заключении под стражу осужденного по месту его задержания2, что дает основания считать, что предпочтение отдано п.п. 18 и 18.1 ст. 397 УПК РФ. Кроме того, Пленум Верховного Суда РФ исключает продление срока задержания осужденного свыше 48 часов, ориентирует суды на рассмотрение представления о заключении под стражу в этот срок, что объясняет его отказ от оперирования категорией «продление срока задержания».
При совершенствовании нормативной регламентации задержания осужденного при исполнении приговора с точки зрения полномочий суда на продление его сроков, на наш взгляд, в первую очередь необходимо разрешить вопросы, имеющие практическую значимость: 1) обязан ли суд при продлении срока задержания осужденного исходить из оставшейся неотбытой части наказания для исключения незаконного нахождения осужденного под стражей; 2) включается ли время задержания осужденного (48 часов) в 30-суточный срок, на который может быть продлен срок задержания; 3) какие обстоятельства подлежат разрешению в постановлении о продлении срока задержания; 4) какое наименование должно иметь судебное решение о помещении задержанного осужденного под стражу сверх 48-часового срока (постановление о продлении срока задержания со ссылкой на соответствующие нормы УИК РФ либо постановление о заключении осужденного под стражу со ссылкой на пп. 18 и 18.1 ст. 397 УПК РФ).
Подчеркнем, что даже с учетом того, что в целом судами правильно понимается специфика рассматриваемой меры принуждения, реализация законоположений о заключении под стражу осужденного затруднена, прежде всего из-за неопределенности ее места в системе мер уголовно-процессуального принуждения. Укажем, что зачастую она отождествляется с арестом обвиняемых (подозреваемых), установленным ст. 108 УПК РФ, ввиду использования законодателем одинакового обозначения («заключение под стражу»), а также схожего содержания анализируемых мер (состоят во временной изоляции лица от общества с помещением в следственный изолятор), регулирования одним законодательным актом (УПК РФ).
Однако распространять на заключение под стражу положения главы 13 УПК РФ ошибочно. При более детальном исследовании оснований, условий и порядка ее применения становится очевидным, что она является самостоятельной мерой процессуального принуж-дения3, ориентированной на производство, предусмотренное главой 47 УПК РФ.
К сожалению, правовое регулирование заключения под стражу при исполнении приговора крайне сложно назвать эффективным: отсутствуют правила определения подсудности представлений, требования к их содержанию, не установлены сроки их рассмотрения, виды принимаемых решений и особенности их апелляционной проверки. Кроме того, должным образом не регламентирован порядок судебного заседания, круг его участников и их процессуальное положение.
Эти и многие другие теоретические и практикоориентированные вопросы не «прокомментированы» в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. N 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» и от 19 декабря 2013 г. N 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий». В таких условиях выходом из сложившейся ситуации является применение закона по аналогии. Распространяются ли нормы ст. 108 УПК РФ на производство, предусмотренное главой 47 УПК РФ, как правило, судья решает самостоятельно по своему внутреннему убеждению. Правовая неопределенность в этом вопросе приводит к применению (использованию) судьями отдельных положений ст. 108 УПК РФ, на что они прямо указывают в решениях о заключении под стражу осужденного. Так, судьи часто ориентируются на 8-часовой срок рассмотрения соответствующих представлений с момента его поступления в суд1; исходят из того, что мировой судья по делу, по которому он постановил приговор, не уполномочен законом рассматривать представления о заключении под стражу осужденного; устанавливают 3-суточный срок апелляционного обжалования таких постановлений.
Надлежащее нормативное регулирование заключения под стражу осужденного при исполнении приговора, что предполагает определение его места в системе мер процессуального принуждения, имеет принципиальное значение с позиций правовых последствий применения в этой части закона по аналогии. Так, распространенная в практике подмена правил главы 47 УПК РФ предписаниями ст. 108 УПК РФ приводит к вынесению решений, не соответствующих ст. 7 УПК РФ, существенному ухудшению положения осужденного вследствие ограничения возможности апелляционного обжалования им судебного постановления в срок, установленный ст. 389.4, 400 УПК РФ.
Необходимо также отметить, что УПК РФ не содержит положений, позволяющих распространить порядок и сроки рассмотрения ходатайства о заключении под стражу обвиняемого (подозреваемого) на заключение под стражу осужденного при исполнении приговора, что препятствует использованию здесь предусмотренной в ст. 108 УПК РФ процедуры. По этой причине не действует правило, установленное ч. 4 ст. 108 УПК РФ, то есть в уголовно-процессуальном законе отсутствует запрет решения вопроса о заключении под стражу осужденного до рассмотрения представления о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания мировым судьей.
Обратим внимание еще на одно отличие исследуемых видов заключения под стражу. Положением ч. 1 ст. 108 УПК РФ установлено формальное условие избрания данной меры пресечения – подозрение или обвинение лица в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Пункты 18 и 18.1 ст. 397 УПК РФ (как и другие нормы, относящиеся к заключению под стражу осужденного при исполнении приговора) подобных ограничений не устанавливают. Другими словами, осужденный может быть заключен под стражу даже в случае, если он скрывается в целях уклонения от отбывания наказания, не связанного с изоляцией от общества (штрафа, обязательных работ, исправительных работ либо ограничения свободы).
Кроме того, в этих случаях избрание иных мер принуждения и продление срока задержания осужденного на срок до 72 часов (по аналогии с п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ) законом не предусмотрено.
Таким образом, заключение под стражу осужденного (пп. 18 и 18.1 ст. 397 УПК РФ) представляет собой самостоятельную меру принуждения, специально предусмотренную для производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, имеющую отличительные цели, основания, порядок избрания и применения. Ее правовое регулирование не осуществляется положениями главы 13 УПК РФ «Меры пресечения».
Данная мера пресечения избирается судом на основании представления, органа внутренних дел либо учреждения, исполняющего наказание, в целях пресечения уклонения осужденного от исполнения приговора и обеспечения его явки в судебное заседание для рассмотрения дел о замене наказания. Максимальный срок заключения под стражу осужденного не может превышать 30 суток и ограничен возможным (в случае замены) сроком лишения свободы. Постановления о заключении под стражу осужденного обжалуются в порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ.
Список литературы Меры процессуального принуждения, применяемые к осужденным при исполнении приговора (общая характеристика, практика применения, правовая природа)
- Александрова, О.П. Правовое положение учреждений и органов, исполняющих наказания, на стадии исполнения приговора / О.П. Александрова, Л.Ю. Буданова. – М.: Юрлитинформ, 2014.
- Борков, В.Н. Уклонение больного наркоманией от отбывания отсроченного лишения свободы / В.Н. Борков, Б.Б. Булатов // Наркоконтроль. – 2021. – N 1. – С. 9-16 .
- Булатов, Б.Б. Институт мер пресечения в УПК Российской Федерации: динамика развития и перспективы совершенствования / Б.Б. Булатов, К.В. Муравьев // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2021. – N 6. – С. 23-30.
- Булатов, Б.Б. Законодательная конструкция задержания осужденного, злостно уклоняющегося от отбывания наказания, и его правовая природа / Б.Б. Булатов // Проблемы предварительного следствия и дознания: сборник научных трудов N 29: по материалам международной научно-практической конференции «Принуждение в уголовном процессе: современные проблемы и тенденции» (г. Москва, 5-6 декабря 2019 г.). – М., 2020. – С. 21-22 .
- Булатов, Б.Б. Привод как мера обеспечения явки в судебное заседание осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания / Б.Б. Булатов, В.В. Николюк // Вопросы правовой теории и практики: сб. науч. тр. – Омск, 2015. – С. 140-149.
- Булатов, Б.Б. Задержание осужденного, злостно уклоняющегося от исполнения приговора (отбывания наказания) / Б.Б. Булатов, В.В. Николюк // Уголовное право. – 2013. – N 6. – С. 96-102.
- Вершинина, С.И. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве: нормативно-правовая природа и механизм функционирования: автореф. дис. … докт. юрид. наук / С.И. Вершинина. – Тольятти, 2017.
- Воронин, О.В. Применение мер процессуального принуждения в стадии исполнения приговора / О.В. Воронин // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. ст. Ч. 30 / под ред. М. К. Свиридова. – Томск, 2006. – С. 176-179.
- Диваев, А.Б. Природа и порядок заключения под стражу по основаниям, указанным в пп. 18 и 181 ст. 397 УПК РФ / А.Б. Диваев // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы XIX всероссийской научно-практической конференции / отв. ред. А.Г. Чириков. – Новокузнецк, 2019. – С. 112-115.
- Ложкина, Л.В. Заключение под стражу осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания наказания в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы (вопросы теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук / Л.В. Ложкина. – Ижевск, 2007.
- Муравьев, К.В. 20 лет совершенствования института мер пресечения: итоги и направления дальнейшего реформирования / К.В. Муравьев // Современное уголовно-процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. – 2021. – Т. 2. – N 1. – С. 7-16.
- Муравьев, К.В. Модель нормативного регулирования мер пресечения, действующих при производстве по уголовному делу и в уголовно-исполнительном судопроизводстве (в развитие научного подхода Заслуженного деятеля науки Российской Федерации доктора юридических наук, профессора В. В. Николюка) / К.В. Муравьев // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2021. – N 3. – С. 145–155.
- Николюк, В.В. Задержание осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания. Спорные вопросы / В.В. Николюк // Уголовный процесс. – 2020. – N 10. – С. 86-91.
- Николюк, В.В. Заключение под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания: доктрина, законодательная конструкция, толкование и проблемы практического применения: монография / В.В. Николюк. – Орёл, 2015.
- Николюк, В.В. Привод, задержание и заключение под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания: научно-практическое пособие / В.В. Николюк. – М., 2018.
- Николюк, В.В. Заключение под стражу в стадии исполнения приговора: в продолжение темы / В.В. Николюк // Уголовное судопроизводство. – 2015. – N 2. – С. 33-41 .
- Николюк, В.В. Обзор практики заключения судами под стражу (продления срока задержания) осужденных, скрывшихся в целях уклонения от отбывания наказания (п. 18 ст. 397 УПК РФ) / В.В. Николюк // Российское правосудие. – 2015. – N 7. – С. 61-81.
- Николюк, В.В. Практика заключения под стражу осужденного, скрывавшегося в целях уклонения от отбывания наказания / В.В. Николюк // Российское правосудие. – 2018. – N 10. – С. 5-16.
- Николюк, В.В. Распространяется ли институт мер пресечения на стадию исполнения приговора? / В.В. Николюк // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. Право. – 2015. – Т. 15, – N 4. – С. 43-52.
- Сероштан, В.В. Разрешение судом вопросов о замене наказания в случаях злостного уклонения от его отбытия и права осужденных лиц / В.В. Сероштан // Российский судья. – 2007. – N 9. – С. 16-19.
- Цоколова, О.И. Меры уголовно-процессуального принуждения, состоящие в изоляции подозреваемого, обвиняемого: монография / О.И. Цоколова. – М., 2008.
- Якубина, Ю.П. Проблемные аспекты задержания осужденных, скрывающихся в целях уклонения от отбывания наказания / Ю.П. Якубина // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. – Орёл, 2016. – С. 315-319.
- Якубина, Ю.П. Законодательное регулирование задержания осужденных, уклоняющихся от исполнения приговора / Ю.П. Якубина // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2017. – N 3. – С. 57-61.