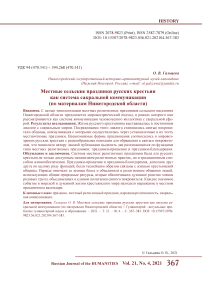Местные сельские праздники русских крестьян как система сакральной коммуникации (по материалам Нижегородской области)
Автор: Гальцева Ольга Валерьевна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (56), 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение. С целью типологизации местных религиозных праздников сельского населения Нижегородской области предлагается мировоззренческий подход, в рамках которого они рассматриваются как система коммуникации человеческого коллектива с сакральной сферой. Результаты исследования. Жизнь русского крестьянина выстраивалась в постоянном диалоге с сакральным миром. Посредниками этого диалога становились святые покровители общины, коммуникация с которыми осуществлялась через установленные в их честь местночтимые праздники. Всевозможные формы празднования соотносились в мировоззрении русских крестьян с разнообразными поводами для обращения к святым покровителям, что позволило автору данной публикации выделить два различающихся по функциям типа местных религиозных праздников: праздники-прошения и праздники-благодарения. Обсуждение и заключение. Система местных религиозных праздников была для русских крестьян не только доступным механизмом религиозных практик, но и традиционным способом жизнеобеспечения. Праздники-прошения и праздники-благодарения, дополняя друг друга по целому ряду функций, были теснейшим образом связаны с жизнью крестьянской общины. Первые отвечали за земные блага и объединяли в религиозном общении людей, использующих общие природные ресурсы, вторые обеспечивали духовное родство членов родовых групп, объединенных в едином почитании святого покровителя. Каждое значимое событие в мирской и духовной жизни крестьянского мира находило выражение в местном праздничном календаре.
Праздник, местный религиозный праздник, народная религиозность, сакральная коммуникация
Короткий адрес: https://sciup.org/147236029
IDR: 147236029 | УДК: 94 | DOI: 10.15507/2078-9823.56.021.202104.367-383
Текст научной статьи Местные сельские праздники русских крестьян как система сакральной коммуникации (по материалам Нижегородской области)
Особое значение среди многочисленных видов праздников у русских имели так называемые местные праздники. По справедливому заключению исследователей, они являлись составной и органической частью всего календарного круга праздников, но вместе с тем значительно отличались от них по происхождению, функциям и структуре. В каждой локальной культуре была система праздничной иерархии, в которой центральное место занимали местночтимые праздники религиозного происхождения (престольные, обетные, явленные). В рамках традиции они устанавливались в память о значимых событиях местной истории (освящение храма или часовни, избавление от стихийных бед- ствий и эпизоотий, явление или обретение святынь) и выбирались из числа общепо-читаемых церковных дат. Однако в каждом крестьянском обществе это делалось самостоятельно – «самочинно», что часто приводило к несоответствию «самочинного» статуса праздника и его статуса в святцах.
В последние десятилетия местные праздники религиозного происхождения все более привлекают внимание этнографов. Актуальность темы обусловлена, с одной стороны, интересом к региональным и локальным народным, религиозным традициям, с другой – необходимостью изучения феномена местных праздников, без которого представление о русской праздничной культуре не было бы полным.
ГУМАНИТАРИЙ : актуальные проблемы
гуманитарной науки и образования
В современной этнографической науке вопрос о принципах формирования системы местных религиозных праздников и их функциях в жизнедеятельности крестьянской общины до сих пор остается открытым. Следствием этого отчасти стало сформировавшееся в исторической науке негативное воззрение на объем и характер праздничного (нерабочего) времени в жизни русского крестьянства второй половины XIX – начала ХХ в.
Классификация местных религиозных праздников предпринималась неоднократно, однако общего подхода к их типологии пока нет. Главным образом, решение этой проблемы затрудняется количеством местных религиозных праздников, разнообразием региональной и локальной терминологии, а также вариативностью их включения в праздничный календарь.
В нашей статье для классификации местных религиозных праздников предлагается мировоззренческий подход. В его рамках система местных религиозных праздников рассматривается как проекция самобытного строя религиозной жизни местного сообщества, сформировавшегося во взаимодействии официального опыта церкви и собственного народного религиозного и исторического опыта. Целью исследования является создание типологии местных праздников религиозного происхождения на основании анализа их функций в религиозной жизни крестьянской общины.
Хронологические рамки исследования определены концом XIX – началом ХХI в. Этот период позволяет рассмотреть местные религиозные праздники в динамике их изменений, от периода бытования всей системы до фрагментарного бытования отдельных наиболее значимых ее элементов.
Обзор литературы
Местные сельские праздники религиозного происхождения как часть общей системы местных праздников обращают на себя внимание исследователей лишь в конце ХХ в. Одной из первых работ стала монография М. М. Громыко «Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в.» [11], в которой вну-триобщинные праздники рассматриваются в контексте традиционных норм социально-общественной жизни русского крестьянства. Классификация местных праздников представлена в работах нескольких исследователей. В изданной в 2005 г. коллективной монографии «Русские», в разделе «Местные праздники», Н. С. Полищук называет в их числе престольные, обетные, съезжие, деревенские, уличные праздники и местные годовые гулянья [19], но не указывает при этом признаки типологизации и не выделяет в отдельные группы праздники сельского и городского населения. Более удачной признана классификация М. И. Васильева [9], который на материале Волотовского района Новгородской области классифицирует местные праздники по особенностям происхождения: 1) храмовые или престольные; 2) заветные или обетные; 3) обретенные или явленные; 4) общественные. По структуре и содержанию выделяет среди них две основные группы: праздники-обряды и праздники-гулянья. А. В. Черных на основе системного анализа цикла местных праздников русского населения Пермского Прикамья [24–25] расширяет признаки классификации М. И. Васильева функциями и статусом местных праздников в локальном сообществе. Он также выделяет четыре группы местных праздников: 1) престольные праздники; 2) праздники, установленные по обету; 3) праздники, связанные с почитанием обретенных или явленных икон; 4) общественные праздники, которые распределяет по степени значимости, не выделяя при этом сельские храмовые праздники в самостоятельную группу.
Мировоззренческий аспект в изучении этнокультурной истории одной из первых был обоснован Т. А. Бернштам в работе, посвященной исследованию локальных групп Русского Севера: «Без мировоззренческого аспекта локальная проблема в этнографической постановке бессмысленна, ибо исчезает важнейший человеческий фактор – мировосприятие самих носителей культуры в конкретном пространстве, т. е. народные локальные представления, содержащие весь спектр связей человеческого коллектива с космоприродным и земным бытием» [2, с. 208]. Тема местных религиозных праздников представлена в аспекте локальной специфики духовной культуры Русского Севера. В рамках изучения региональных особенностей крестьянской праздничной культуры Т. А. Бернштам неоднократно затрагивала тему местных религиозных праздников [1–4], анализируя их функции, структуру и местную специфику включения в праздничный календарь. В главе о сельских приходских праздниках ее последней монографии «Приходская жизнь русской деревни» представлены общие принципы формирования праздничной иерархии регионального и локального вариантов крестьянского календаря [5, с. 260–278]. Л. А. Тульцева в статье «Престольные праздники в картине мира (мироколице) православного крестьянина» рассматривает сельский престольный праздник как центр обрядовой жизни крестьянского мира, в котором соединяются церковная и народная культура [23]. В статье И. А. Кремле-вой «Церковные праздники: место обетных праздников в русле народной культуры» [12] подробно рассмотрена история коллективных обетных практик (обетных праздников) и представлены результаты сравнительного анализа их функции. В статье Т. Б. Щепан-ской «Кризисная сеть (традиции духовного освоения пространства)» [26] местные религиозные праздники рассматриваются в социологическом аспекте как часть механизма локальной системы коммуникации –
«кризисной сети». А. А. Панченко в книге «Исследования в области народного православия. Деревенские святыни Северо-Запада России» [16] рассматривает «народную религию» («народное православие») как самостоятельную религиозную практику, оказавшую сильное влияние на церковную традицию. Эту тему он также развивает в первой главе монографии «Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура русских мистических сект» [17], где анализирует разные подходы к изучению народной религиозности у русских и зарубежных исследователей. Местные религиозные праздники автор определяет в общем ряду народных религиозных практик как разные виды обета, через которые осуществляется коммуникация человеческого коллектива с миром сакрального. Тему религиозных праздников в местной, сельской культуре советского и постсоветского времени раскрывает Т. А. Листова [13], подробно рассматривая состояние отдельных видов местных религиозных праздников. Сравнительному анализу современных и традиционных аспектов народной религиозности на территории Дивеевского района Нижегородской области посвящена статья Нижегородских этнографов О. Н. Ляпаевой и О. И. Александровой [14].
В числе современных изысканий, центром внимания которых стали народная религиозность и местные религиозные праздники, следует отметить работы Д. Б. Бурменской [6], Е. В. Платонова [18], М. Н. Милютиной [15], Т. А. Сережко [21], В. В. Власовой [10], А. Н. Розова [20], А. В. Скутнева [22], О. Р. Хасянова [27].
Материалы и методы
Для достижения основной цели исследования были применены структурнофункциональный, историко-сравнительный методы и метод типологизации. Использование структурно-функционального метода было связано с необходимостью определить функции местных религиозных праздников в религиозной жизни крестьянской общины, что в свою очередь позволило предположить первоначальные принципы формирования системы местных религиозных праздников как механизма для осуществления коммуникации человеческого коллектива с миром сакрального, божественным. Полученные результаты стали основой для типологизации местных религиозных праздников по типу их религиозных функций. Применение историко-сравнительного метода позволило проследить состояние сакральных функций местных религиозных праздников в дореволюционный, советский и постсоветский периоды и зафиксировать их постепенное ослабление, связанное с десакрализацией праздничной культуры и секуляризацией религиозного сознания основной массы сельского населения.
В процессе работы над статьей был проведен историографический анализ научных трудов, который дал возможность получить большое количество теоретико-методологического и фактологического материала по рассматриваемой проблеме. Бо́льшая часть сведений по местным религиозным праздникам дореволюционной России были почерпнуты из корреспонденций Этнографического бюро князя Тенишева по Нижегородской, Костромской и Владимирской губерниям. Эти данные были дополнены полевыми материалами автора, относящимися ко второй половине ХХ – началу XХI в., собранными в этнографических поездках по Большемурашкинскому, Варнавинскому, Вачскому, Ветлужскому, Вознесенскому, Дальнеконстантиновскому, Дивеевскому, Княгининскому, Ковернин-скому, Кстовскому, Кулебакскому, Луко-яновскому, Сосновскому, Тоншаевскому, Чкаловскому районам Нижегородской области. При этом использовались методы полевых исследований, в частности, наблюдения и интервьюирования.
Результаты
Хозяйственный быт русского крестьянина был сопряжен с постоянным преодолением ожидаемых и непредвиденных трудностей, таких как рискованные условия земледелия, социальная и экономическая незащищенность, влияние на жизнь внешних, часто стихийных факторов. Эти обстоятельства в сочетании с глубокой религиозностью выстраивали жизнь русского землепашца в ритме постоянного диалога с божественным. Сложная система почитания святых покровителей семьи и рода в XIX в. уступила место почитанию святых покровителей общины, которое приняло форму местночтимых праздников. Лежащее в их основе памятное событие (масштабное бедствие, явление святыни, освящение храмового престола) в рамках воспринятого народом христианского мировоззрения осмысливалось как религиозный акт – прямой контакт с Богом. «В каждом селе существуют свои праздничные дни – “в память какого-либо посещения Божия”» [7, с. 152], через это «посещение Божие» община обретала небесных заступников, святых покровителей, а через праздник устанавливала периодическую «коммуникацию» с миром сакрального для ежегодного обращения к этим заступникам – покровителям. И. А. Кремлева писала: «Отныне этому посреднику (посреднице) между Богом и сообществом обещалось постоянно – ежегодное празднество» [12, с. 134]. По мнению ряда авторитетных исследователей, из всех обычаев духовной жизни русского народа наиболее выраженную форму сакральной коммуникации имел обет – посвятительное жертвоприношение, обещание Богу. Т. А. Бернштам рассматривала обет как коллективную словесно-поведенческую форму прямого общения с Богом [4, с. 88], И. А. Кремлева – как одну из древнейших форм христианских религиозных практик, «проявления религиозных чувств», коллективного покаяния [12, с. 122–123], А. А. Панченко – как «вполне нормативную и общедоступную (как для индивида, так и для коллектива) форму коммуникации с сакральным миром» [16, с. 239]. С точки зрения А. А. Панченко, все местные праздники (речь, конечно, идет о местных праздниках религиозного происхождения) представляли собой один из видов коллективного обета – коммуникации с сакральным [16, с. 241]. В этом контексте механизм установления каждого праздника определялся тем, каким образом явило себя первое «посещение Божие», в ответ на которое он был установлен. Например, праздник по обету устанавливался в ответ на избавление от стихийного бедствия или эпизоотии. Явленный или обретенный праздник был ответом на явление или обретение святыни. Установление престольного праздника основывалось на освящении престола или другом событии, осмысленном сообществом в этом статусе.
Разные по механизму установления праздники, главным образом обетные и яв-ленные/обретенные, отличались и способами регламентации установленной связи с сакральным. В обетных праздниках (заповедных, обещанных, оброчных – Нижегородская область) сакральная коммуникация регламентировалась положенным обетом (заветом, оброком) – обещанием Богу ежегодно праздновать день памяти святого или события, по молитве которым или в день памяти которых произошло избавление от того или иного несчастья. В ряде случаев функцию обета могло выполнять предание, повествующее о происхождении святыни, проявлении ее чудесных свойств и установлении с ней соответствующих правил контакта. Чаще всего это было характерно для обретенных и явленных праздников, которые, как пишет М. И. Васильев, «могли появиться после какого-либо “чуда”» [8, с. 16]. В качестве примера рассмотрим предания о двух праздниках в честь Фрола и Лавра, где первый праздник установлен по обету, а второй – в честь обретения иконы. В д. Зотово Тоншаевского района «случился однажды страшный мор лошадей, тогда приехал из Тоншаева священник, окропил лошадей святой водой, и мор прошел, было это в праздник Фрола и Лавра. С тех пор день Фрола и Лавра стал праздником нашей деревни. Каждый год в этот день из Тоншаева на тарантасе приезжал батюшка, а люди приводили своих лошадей. Их купали в пруду и окропляли святой водой, и кони не болели»1. В отчете корреспондента Тенишевского бюро из Ветлужского уезда Костромской губернии (ныне Ветлужский район Нижегородской области) рассказывается о храме с. Радщинское, который «освящен Фролу и Лавру. Предание говорит, как освящена церковь: 33 лет по случаю найденной иконы Фрола и Лавра в источнике из горы. Народ ездит в эту церковь на конях верхом 18 августа, тоже по обещанию служить молебен святым мученикам, после выздоровления от болезни лошадей. Кто из крестьян съездит и сослужит молебен о здравии, никогда никакая лошадь не захворает и не припадет»2. Из этих примеров достаточно хорошо видно, что механизм установления и регламентации коммуникации с сакральным в обретенных/явленных праздниках действует так же, как и в случаях с положением обета, только «посещение Божие» являет себя не через бедствие, а через чудо. В с. Епифаново и д. Сергиево Вач-ского района празднование дня Тихвинской иконы Божией Матери на освященном в ее честь «родничке» началось с чуда, предание о котором долгое время поддерживало и регламентировало почитание на этом (еще не освященном церковью) водном источнике святого образа: «Однажды явилась людям икона на яблонке около маленького родничка. Вскоре, в день памяти Тихвинской иконы Божией Матери вода в родничке замерзла, люди стали ведрами лед носить домой. На льдинках был изображен, где крест, где иконка. Люди тогда решили, что все это не случайно, что вода стала целебной, святой и поставили на родничке часовенку. Люди верили в живительную, чудотворную силу воды и шли, и ехали отовсюду. 9 июля все также сходятся люди, чтобы почтить память Тихвинской Божьей Матери, помолиться, испить водицы и окатиться ею»3.
Структуру и содержание каждого местного религиозного праздника определял текущий повод – предлог, по которому установленная после «посещения Божия» коммуникация с сакральным использовалась местным сообществом. Например, корреспондент Тенишевского бюро из Ветлужского уезда Костромской губернии (ныне Ветлужский район Нижегородской области) представляет на этот счет следующие сведения: «Прокофию Праведному празднуют от града [] Великомученику Георгию вследствие падежа скота, по порядку деревенскому, Илие Пророку по случаю пожара, Казанской Божьей матери, как заступнице грешных»4. С этой точки зрения все местные праздники религиозного происхождения можно разделить на две основные группы. Первая группа – это праздники, сакральная коммуникация которых использовалась сообществом для обращения за помощью, т. е. праздники-прошения. Вто- рая – праздники, коммуникативной функцией которых являлось выражение миру сакрального благодарности, их мы назвали праздниками-благодарениями. Праздники-прошения выполняли служебную функцию и были более связаны с хозяйственно-бытовой сферой жизни сообщества (сохранение посевов и урожая, поддержание скотины, защита дома и надворных построек). Праздники-благодарения более удовлетворяли духовные потребности, связанные с утверждением продолжения жизни, как пишет Т. А. Бернштам, «отдача себя высшим силам, как бы в благодарность и для разрешения пользоваться ею дальше» [3]. Праздники-благодарения занимали в местной праздничной иерархии максимально высокое положение, в свою очередь праздники-прошения были более многочисленны и разнообразны.
Праздники-прошения имели односложную структуру и сдержанную эмоциональную окраску, в большинстве случаев отмечались строго внутри одной общины, села или деревни, часто имели временный характер. По структуре и содержанию М. И. Васильев определяет их как праздники-обряды (т. е. праздники без гулянья) [8, с. 19]. Действительно, сильной стороной этих праздников, как пишет И. А. Кремле-ва, «являлась их общественно-религиозная часть» [12, с. 134]. На такие праздники не принято было приглашать гостей: «Только своими собирались женщинами и молеб-ствовали»5. В структуре праздников-прошений не было ни застолий, ни гуляний: «Нет, гости – это когда престол, тут какие гости, сходили, помолились и все, никаких гуля-ний»6, что в полной мере соответствовало их служебному назначению. Их функцио- нальным и содержательным центром были крестный ход и молебен – «богослужение, совершаемое по особой какой-либо нужде общественной или частной»7. Примечательно, что совершаться молебен мог и по церковному канону со священником, и так называемым мирским чином – самими мирянами, что по народному представлению нисколько не влияло на качество коммуникации с божественным. А. А. Панченко считал, что «скорее следует говорить о сознательном обращении традиционной культуры к религиозной институции» [17, с. 10], чем о прямой зависимости от нее. Важнейшим условием, от которого, по народным воззрениям, зависел результат коллективного обращения к высшим силам, был отказ от работы, точнее, строгий запрет на все виды хозяйственной деятельности для всех членов общины на время проведения праздника; за его соблюдением следило все общество. «Повсеместно считалось, что в дни праздников нельзя работать, особенно “на себя”, а работу в обетные праздники тем более считали “смертным грехом”» [12, с. 127]. В конце XIX в. корреспонденты Этнографического бюро князя Тенишева по Нижегородской губернии писали: «Работа в большие двунадесятые праздники, в праздники престольные, местные в глазах крестьянина представляется всегда греховной; в эти дни никто и никогда не станет ра-ботать»8. «Бывали случаи, когда крестьяне, празднуя три небольших праздника подряд в деловую пору, теряли весь ржаной хлеб на поле, который весь выбивался ветром (хотя жать его можно было за неделю)»9. Стоит отметить, что в дореволюционной России отказ от трудовой деятельности в дни боль- ших христианских праздников был официально узаконен государством. Однако «праздничная праздность» в народном ее осмыслении была не освобождением от работы и не только добровольным отказом от нее «из опасения нажить беду…», но и альтернативной греху, искупительной жертвой Богу самого дорогого, что было у землепашца, – времени. В советские и постсоветские годы многие сельчане, не «приученные» посещать церковь, следуя традиции, продолжали почитать религиозные праздники исключительно отказом от хозяйственной деятельности: «Сегодня праздничек, работать грех»10; «День свят все дела спят»11, который становился для них единственным способом приобщения к сакральной коммуникации праздника.
К праздникам-прошениям мы отнесли часть явленных и обретенных по происхождению праздников и все праздники, установленные по обету. В обетных праздниках, как уже говорилось выше, текущий повод для обращения к тому или иному святому определялся обстоятельствами положения обета, т. е. от чего он был положен (от засухи, пожара, коровьей смерти, градобитий и пр.). Так, в д. Белоусово Воскресенского района заповедь почитать день памяти Владимирской иконы Божьей Матери – местного заповедного праздника – была положена после сильного пожара. По такому же поводу был установлен обещанный праздник в честь Владимирской иконы в с. Владимировка Кстовского района. В этот день иконе служится молебен, после чего ее с крестным ходом обносят вокруг села от пожара. Жители д. Рожок Сосновского района помнят, что «закон» праздновать оброч- ный праздник в честь Святого Духа (Духов день) был положен после исцеления деревенского стада от коровьей смерти. Со слов старожилов, в этот день в деревню всегда приезжал священник и служил молебен от коровьей смерти, после чего кропил святой водой местное стадо. Для обретенных или явленных праздников повод для обращения к сакральному часто определяли обстоятельства чудесного явления или обретения святыни. Особенно характерными были случаи, когда явление или обретение святыни происходило на водных источниках. Как правило, установленный по этому поводу праздник сообщество использовало для регулярного обращения к святыне с прошениями о дожде. По преданию, в с. Гремячево Кулебакского района на безымянном источнике явилась икона Божией Матери Скоро-послушница. Вскоре иконе был установлен праздник, во время которого ежегодно совершается крестный ход с молебном от без-дождия. На престольный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери крестный ход с молебном от пожара и засухи идет на Казанский источник, где когда-то была явлена икона. Из д. Борцово и с. Дальнее Константиново в прежние времена на летнюю Владимирскую с молебном от бездождия шли на Владимирский источник, где когда-то произошло явление этого образа.
Интересной разновидностью праздников-прошений являются праздники, которые мы назвали праздниками-предупреждениями, или запретными праздниками. На территории Нижегородской области их именуют строгими, коварными, жестокими, грозными, сердитыми праздниками; они не утратили актуальности и в начале XXI в., в основном празднуются Богородице и отдельным святым. Например, в с. Майдан и Чернуха Кстовского района на грозный праздник Яистрию (Смоленская Божия Матерь) нельзя топить баню. В д. Рожок Со-сновского района, где ту же Яистрию называют строгим праздником, запрещались все работы по дому. В д. Кошелиха Дивеевского района на сердитый праздник Казанскую нельзя работать в поле. В д. Челатьма Дивеевского района на грозный день Ильинскую пятницу и в д. Яндовы Семеновского района в грозный праздник Ильин день запрещалось метать стога. Регламентировались праздники-предупреждения циклом местных быличек о нарушении запрета и о немедленно постигающей нарушителя каре. К сожалению, ни один из респондентов не смог объяснить нам причину установления своего запретного праздника. Нам удалось проследить ее лишь в случае с коварным праздником Неопалимая (Неопалимая Купина) с. Дальнее Константиново и д. Татарская Дальнеконстантиновского района. В этот праздник внутри местного сообщества до сих пор соблюдается строгий запрет топить бани и вообще что-либо предпринимать с огнем. В истории Никольской церкви с. Дальнее Константиново мы нашли сведения о пожаре, случившемся в 1801 г., в котором полностью сгорел храм. В 1827 г. для вновь отстроенного храма прихожанами д. Татарская (ныне с. Татарское) по случаю частых пожаров была написана икона Неопалимая Купина12. В данных случаях, как и в случаях с положением обета, сакральная коммуникация устанавливалась через строгое соблюдение запрета, обещанного Богу после случившегося несчастья. Соблюдение членами общины этого запрета обеспечивало защиту от повторных бедствий.
Установленная через праздник коммуникация с сакральным могла строиться как простой диалог (праздники-предупреждения), и как довольно сложные «перего- воры». В этих случаях, как правило, было несколько поводов для обращения к святым покровителям. Например, прошение и благодарение, как и в приведенном выше случае с обретенным праздником в честь Фрола и Лавра, или прошение и покаяние, как в случае с праздником с. Суворово Дивеевского района (бывшее Страхово Пузо) в честь трех новомучениц Пузовских Евдокии, Дарии и Марии. Этот обретенный в последнем установлении праздник начался с обета. После расстрела в 1918 г. местной блаженной Дунюшки и ее «хожа-лок» (мирских келейниц) в селе начались сильнейшие пожары. По словам местных жителей, «горела даже вода». Местным сообществом это бедствие было воспринято как заслуженная кара, посланная Богом в наказание за то, что никто из них не вступился за невинных. Пожары в селе прекратились только после того, как община дала обет справлять по казненным мученицам ежегодные поминки. Наставление об этом обете одна из местных жительниц получила от самой Дунюшки во сне. С тех пор поминки по святым утраивались в дату их смерти (18 августа) ежегодно, во времена советской власти их справляли ночью по домам. Теперь, когда обретены мощи святых и день их поминовения стал официальным праздником, общая трапеза организуется на территории местного храма. С точки зрения наших информантов, окончание пожаров было воспринято местным сообществом как прощение за совершённый грех и свидетельство того, что они вновь могут обращаться к святой за помощью: «Начали ходить за помощью к Дунюшке на могилку, и она всем опять помогать стала»13. Примерами сходной диалоговой коммуникации с сакральным были случаи, когда община сознательно принимала решение не отмечать больше тот или иной праздник. Это могло происходить в тех случаях, когда прежний, старый обет утрачивал силу, например, за давностью лет. М. М. Громыко пишет об этом так: «Традиция заповедных дней уходила корнями в глубокое прошлое. Тем не менее, общинный контроль над нею устанавливался периодически заново, не рассматривался крестьянами как нечто само собой разумеющееся и установленное раз и навсегда» [11, с. 126]. После такой отмены, отмечает А. В. Черных, часто следовало стихийное бедствие, которое считалось божьим наказанием, поэтому местное сообщество принимало решение возобновить почитание праздника [25, с. 162]. В этом случае праздник возобновляется уже в новом статусе обетного, а новым поводом для обращения к сакральному становится покаяние. О примере подобного рода нам рассказали в д. Маркуша Ветлуж-ского района. В один год, когда погода стояла особенно хорошая для сенокоса, мужики на сходе решили перенести «свою» Казанскую с летней на зимнюю, тем самым вовремя закончить покос. Однако к вечеру праздничного дня, вернувшись с сенокоса, жители деревни обнаружили, что весь их скот заболел. По общему решению на следующий день была соткана «обыденка», отслужен молебен, и с тех пор на летнюю Казанскую в этой деревне не работают и в первый, и во второй праздничный день14. В этих случаях, как пишет Т. А. Бернштам, «происходила проверка значимости события», результатом которой была «реакция» святого, которому был посвящен праздник на те, или иные поступки (действия) людей». Если нарушение праздника не влекло за собой плохих последствий, праздник переходил в разряд будней [3, с. 227].
В советское время процесс обновления коллективных сакральных связей был прак- тически приостановлен. К концу ХХ в. в селах и деревнях Нижегородской области с «давешних» времен продолжали отмечать один, очень редко два праздника-прошения. Как правило, их поддерживала небольшая группа старожилов, для которых участие в празднике приобретало новый смысл – сохранение коммуникации как части духовного наследия предков: «Так заведено было не нами, вот надо делать по заведен-ному»15; «Наши матери ходили, и мы будем ходить»16.
Праздники-благодарения принципиально отличаются от праздников-прошений по структуре локализации и, что особенно важно, по содержанию. Эмоциональной и смысловой сутью этих праздников, в отличие от праздников-прошений, являлось торжество и радость приобщения (общения) членов сообщества к празднуемому событию.
Праздники-благодарения складывались из двух основных частей: богослужебной (в храме) и общественной, разворачивающейся за его пределами, – от прицерковной территории до сельских улиц и домов. Общественная часть могла принимать разные формы: трапеза для участников праздника; масштабный крестный ход, охватывающий сразу несколько селений; общественный пир (складчина); гулянье, которое на территории Нижегородской области было характерно для местных религиозных праздников, только для престольных праздников.
Центром богослужебной (религиозной) части праздников-благодарений была литургия – «самое высокое богослужение в церкви Христовой»17, во время которого совершалась евхаристия (в переводе с греческого «благодарение») – благодарственная жертва за святых18. Если в селении не было храма, члены сообщества посещали литургию в близлежащих церквях или монастырях, о чем также свидетельствует А. В. Черных [25, с. 162]. Даже в советское время, когда большинство сельских церквей были недействующими, по случаю престольного праздника отдельные группы верующих обязательно ездили на литургию в действующие храмы.
Исходя из анализа материала, попавшего в поле нашего зрения, праздники-благодарения представлены в Нижегородской области двумя группами. Первая группа – явленные или обретенные праздники, выделяющиеся из общего числа других местночтимых праздников (праздников-прошений) в силу особой значимости празднуемых событий или чтимых святынь, но не ставшие по разным обстоятельствам престольными. По нашим наблюдениям, к ним можно отнести местные религиозные праздники, получившие новое прочтение в начальный постсоветский период «создания новой общественно- и государственно-церковной праздничной культуры», которая, как пишет Т. А. Листова, «не имеет какой-либо завершенной формы, она находится в стадии становления, показывая как общие тенденции, так и региональные и локальные отличия» [13, с. 169]. Например, в с. Аламасово Вознесенского района в настоящее время всем сельским сообществом активно отмечается обретенный праздник в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Эта икона была обретена в начале ХХ в., когда разорялась Свято-Успенская Саровская пустынь. В советское время, после того как храм в селе закрыли, обретенная икона Тихвинской Божией Матери была единственной святыней и утешением для местного со- общества. После восстановления местного Архангельского храма икону перенесли сюда, а праздник в ее честь начали отмечать наравне с престольным. Ежегодно в день праздника, после литургии, местные жители устраивают около церкви обед для гостей, число которых в 2017 г. превысило 500 чел.19 Приготовление обеда начинается за неделю, принимают участие практически все женщины села, даже те, которые не являются постоянными прихожанками храма. В с. Маргуша Дальнеконстантиновского района обретенный праздник Казанской иконы Божией Матери, в честь которой в середине XIX в. был освящен разрушенный ныне храм, отмечается ежегодным крестным ходом, охватывающим все окрестные деревни, в каждой из которых иконе служится молебен. Конечным пунктом шествия в настоящее время является единственный в округе действующий Покровский храм с. Татарское, где в честь праздника служится литургия, после чего к иконе прикладываются специально приехавшие для этого жители района.
Вторая, основная группа праздников-благодарений представлена праздниками, которые местные сообщества отмечают в статусе престольных – главных годовых праздников. Престольный праздник занимал в крестьянском праздничном календаре исключительно преимущественное положение, местным сообществом он ставился в один ряд с Пасхой. «Праздники – это только престольные у нас называли, старинныя…»20; «Праздник – это престольный конечно, это в первую очередь у нас…»21. Престольные праздники были самыми продолжительными по времени, имели самую сложную структуру и были теснейшим образом связаны с категорией кровно-коренного родства. «Совокупность всех этих факторов способствовала тому, что престольный праздник являл собой как бы воплощение идеи всеобщности, все-праздности» [23]. Непременным условием соблюдения престольного праздника было веселье – не праздное, пустое, а праздничное, ритуальное, как кульминационная и жизнеутверждающая часть всего праздничного действа. На вопрос: «Собирались ли престольные праздники во время войны?» – информанты довольно часто отвечали: «Во время войны гуляли еще больше, вдвойне гуляли!»22
Можно сказать, что сельские престольные праздники конца XIX – начала ХХ в. представляли собой прогрессивную, соответствующую духу пореформенной России форму нового всеобщего празднования.
Престольным мог стать любой по механизму установления сакральной коммуникации праздник, но наиболее древним и «законным» для его установления все же считалось освящение храма. В соответствии с учением православной церкви «посещение Божие» происходит во время чина освящения храмового престола, когда на него сходит Святой Дух. Эта догма была усвоена и принята в простом народе, и каждая крестьянская община старалась построить храм. Разница в православном каноническом церковном и народном осмыслении престольного праздника была весьма существенной. По совершенно справедливому утверждению А. В. Черных, «вариативность в составе, распределении и установлении престольных праздников, различном их соотношении с церковными традициями, разнообразие структуры и со-
-
19 ПМА: с. Аламасово Вознесенского района Нижегородской области, 2018 г.
-
20 ПМА: с. Шандрово Лукояновского района Нижегородской области, 2011 г.
-
21 ПМА: с. Дальнее Константиново Дальнеконстантиновского района Нижегородской области, 2019 г.
-
22 ПМА: д. Бакшеево Дальнеконстантиновского района Нижегородской области, 2015 г.
Том 21, № 4, 2021
става элементов свидетельствуют о более широком народном их осмыслении, нежели в контексте только храмового праздника [24, с. 19]. Данные полевых исследований Нижегородской области свидетельствуют о том, что праздники, которые информанты называют престольными, не всегда совпадают с освящением местных или приходских храмов. Например, в с. Большое Череватово Дивеевского района храм освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы, однако престольным праздником старожилы села называют Преполовенье. В ныне не существующем с. Смолино того же района церковь была освящена в честь Трех Святителей Московских, а престольный праздник, по словам старожилов, всегда отмечали в Троицу. В с. Челать-ма Дивеевского района была Покровская церковь, однако в качестве престольного праздника отмечается Иван Цветник (Рождество Иоанна Предтечи). В с. Ивановское Большемурашкинского района были две церкви, почти одновременно разрушенные в советское время. Старая церковь была освящена в честь Иоанна Богослова, а новая – в честь Преображения Господня. Престольный праздник местные жители празднуют по освящению престола старой церкви. В с. Григорово того же района на месте обветшавшей Борисоглебской церкви была построена новая в честь Казанской иконы Божией Матери. До настоящего времени здесь продолжают отмечать престол по старому освящению. В с. Суро-ватиха Дальнеконстантиновского района церковь во имя Александра Невского была реконструирована и получила новое освящение во имя Преображения Господня, но для местного сообщества престольным праздником остался Александров день. На наш взгляд, основополагающая причина такого рода разночтений заключалась в от- сутствии преемственности между новым освящением храма и установленной ранее сакральной коммуникацией с покровителем общины. М. И. Васильев отмечает, что «слабо развитая традиция празднования» отдельных престольных праздников была связана с тем, что при освящении новой церкви не учитывалось освящение предшествующей [8, с. 14]. В одной из работ Т. А. Бернштам описывает ситуацию 1867– 1869 гг., когда в связи с указом о переделе приходских границ произошло слияние одних и закрытие других приходов, при этом старые церкви оказывались за пределами новых приходов. В этих обстоятельствах «большинство жителей все равно продолжали ходить в нее, способствуя “простою” нового приходского храма» [5, с. 181].
В советское время, когда большинство сельских храмов были закрыты или разрушены, посредством престольных праздников в их общественном исполнении сельские сообщества поддерживали главную сакральную коммуникацию. Со слов наших информантов, в 1960-е, 1970-е и 1980-е гг. немногие представители среднего и тем более молодого поколения могли ответить на вопрос: «В честь кого была освящена местная церковь?», но свой престол знали и почитали все23.
Обсуждение и заключение
Изучение местных религиозных праздников как системы коммуникации крестьянского мира с миром сакрального в первую очередь позволяет расширить представление о значении праздника в жизни русского народа. Система местных религиозных праздников была не только важной частью религиозной и социально-общественной жизни русских крестьян, но и традиционным способом жизнеобеспечения крестьянской общины. Для многих селений, особенно отдаленных от волостных центров, местные религиозные праздники становились единственной доступной формой защиты от непредвиденных жизненных обстоятельств.
Новая типология местных религиозных праздников позволила выявить некоторые общие принципы формирования локальных праздничных систем, в которых праздники-прошения и праздники-благодарения дополняли друг друга по целому ряду функций. Праздники-прошения отвечали за земные блага и объединяли в религиозном общении людей, использующих общие природные ресурсы. Праздники-благодарения обеспечивали духовное родство членов родовых групп, вышедших из одного «корня» и объединенных покровительством одного святого.
Система местных религиозных праздников была отражением мирской и духовной жизни крестьянской общины. В каждом случае самобытное устройство местного праздничного календаря было не столько следствием внешних обстоятельств, сколько их осмыслением в рамках религиозного, а порой и мистического опыта членов общества.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о перспективности применения данного подхода в изучении местных религиозных праздников и могут быть использованы для дальнейшего, более глубокого изучения как региональной праздничной традиции, так и народной религиозности.
Список литературы Местные сельские праздники русских крестьян как система сакральной коммуникации (по материалам Нижегородской области)
- Бернштам Т. А. Будни и праздники: поведение взрослых в русской крестьянской среде (XIX - начало XX в.) [Электронный ресурс] // Этнические стереотипы поведения. - СПб., [1985]. - URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/bernscht_budprazd.php (Дата обращения: 15.12.2020).
- Бернштам Т. А. Локальные группы Двинско-Важского ареала: Духовные факторы в этно- и социокультурных процессах // Русский север: К проблеме локальных групп. - СПб., 1995. -С. 208-299.
- Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX - начала ХХ в.: Половозрастной аспект традиционной культуры. - Л. : Наука, 1988. - 278 с.
- Бернштам Т. А. Молодость в символизме переходных обрядов восточных славян: Учение и опыт церкви в народном христианстве. - СПб. : Петербургское востоковедение, 2000. -395 с.
- Бернштам Т. А. Приходская жизнь русской деревни: очерки по церковной этнографии. -СПб. : Петербургское востоковедение, 2005. - 413 с.
- Бурменская Д. Б. К вопросу о роли праздника в жизни общества // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. - 2008. - № 61. - С. 43-48.
- Быт великорусских крестьян-землепашцев: Описание материалов Этнографического бюро князя В. Н. Тенишева (на примере Владимирской губернии) / авт.-сост.: В. М. Фирсов, И. Г. Киселев. - СПб. : Издательство Европейского Дома, 1998. - 470 с.
- Васильев М. И. Местные праздники в системе праздничной культуры русского народа: традиции и современность // Перекресток культур: междисциплинарные исследования в области гуманитарных наук : сборник статей. - М. : Логос, 2004. - С. 10-32.
- Васильев М. И. Новгородская традиционная праздничная культура: местные праздники Во-лотовского района. - Великий Новгород, 2001. - 129 с.
- Власова В. В. Заветный праздник в публичном пространстве местного сообщества // Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук. - 2014. -№ 3 (19). - С. 127-130.
- Громыко М. М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. - М. : Наука, 1986. - 274 с.
- Кремлева И. А. Церковные праздники: место обетных праздников в русле народной культуры II Церковные праздники русского народа: от прошлого к настоящему : сборник статей и очерков. - М. : ИЭА РАН, 2011. - С. 122-161.
- Листова Т. А. Православие в общественно-религиозных праздниках советского и постсоветского времени (по материалам полевых исследований в российско-украино-белорусском пограничье) II Церковные праздники русского народа: от прошлого к настоящему : сборник статей и очерков. - М. : ИЭА РАН, 2011. - С. 161-231.
- Ляпаева О. Н., Александрова О. И. Особенности восприятия святых мест жителями Ди-веевского и Первомайского районов Нижегородской области II Вопросы исторического и экологического регионоведения : сборник статей участников II Региональной научно-практической конференции. - Арзамас : Арзамасский филиал ННГУ, 2021. - С. 141-146.
- Милютина М. Н. Церковно-народный месяцеслов: посвящения и праздники Кенозерских часовен II Вестник Поморского университета. Серия : Гуманитарные и социальные науки. -2010. - № 1. - С. 91-95.
- панченко А. А. Исследования в области народного православия. Деревенские святыни Северо-Запада России. - СПб. : Алетейя, 1998. - 303 с.
- панченко А. А. Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура русских мистических сект. - М. : ОГИ, 2004. - 541 с.
- Илатонов Е. В. Сакральная топография деревень в нижнем течении реки Шелонь (исследования в округе бывших Илеменского, Ретенского и Скнятинского погостов) II Антропологический форум. - 2007. - № 7. - С. 231-280.
- Иолищук Н. С. Местные праздники II Русские. - М. : Наука, 1999. - С. 602-616.
- Розов А. Н. Народный календарный праздник и православие II Человек. Культура. Образование. - 2018. - № 4 (30). - С. 122-132.
- Сережко Т. А. Народная религиозность в современной крестьянской субкультуре : автореф. дис. ... канд. филос. наук. - Белгород, 2010. - 24 с.
- Скутнев А. В. Православие в жизни русских крестьян в пореформенную эпоху (Вятский край) II Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. - 2016. - № 11. -С. 26-30.
- Тульцева Л. А. Престольный праздник в картине мира (мироколице) православного крестьянина II Расы и народы: современные этнические и расовые проблемы : ежегодник. - М., 1999. - Вып. 25. - С. 157-210.
- Черных А. В. Русский народный календарь в Прикамье: праздники и обряды конца XIX -середины ХХ в. Ч. 4 : Местные праздники. - СПб., 2014. - 288 с.
- Черных А. В. Престольный праздник в системе народного календаря русских Прикамья II Труды Камской археолого-этнографической экспедиции. - Пермь, 2011. - Вып. 7. - С. 162173.
- Щепанская Т. Б. Кризисная сеть (традиции духовного освоения пространства) II Русский Север: К проблеме локальных групп : сборник статей. - СПб., 1995. - С. 110-177.
- Хасянов О. Р. Религиозная праздничная культура колхозной деревни в послевоенное десятилетие (на материалах Куйбышевской и Ульяновской областей) II Научный диалог. -2015. - № 12. - С. 386-399.