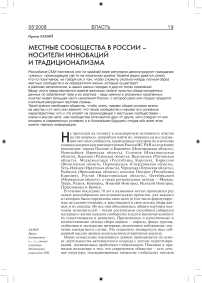Местные сообщества в России - носители инноваций и традиционализма
Автор: Халий Ирина Альбертовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Общество
Статья в выпуске: 5, 2008 года.
Бесплатный доступ
Российские СМИ постоянно или по крайней мере регулярно демонстрируют гражданам «ужасы», происходящие где-то на локальном уровне. Крайне редко удается узнать что-то позитивное, не говоря уж о том, чтобы сложить сколько-нибудь полный образ местных сообществ и их образа/стиля жизни, который существует в районах мегаполисов, в наших малых городах и других типах поселений. Ввиду этого представляются крайне важными любые попытки сбора конкретных данных по заявленной теме и их анализа - ведь именно в указанных населенных пунктах живет большая часть населения России, с которой рано или поздно придется считаться ресурсным группам страны. Такой анализ необходим обществу, чтобы знать: каковы общие условия жизни на местах и от чего они зависят; что такое сообщество и каковы его основные характеристики; кто и что влияет на происходящее с местными сообществами - извне и внутри него; чем сообщества отличаются друг от друга; чего следует от них ожидать в современных условиях и в ближайшем будущем; откуда обо всем этом можно черпать информацию.
Короткий адрес: https://sciup.org/170164426
IDR: 170164426
Текст краткого сообщения Местные сообщества в России - носители инноваций и традиционализма
н е претендуя на полноту и неоспоримую истинность ответов на эти вопросы, попробуем найти их, опираясь на исследования местных сообществ, проведенные сектором по изучению социокультурного развития регионов Р-оссии ИС Р-А-Н в следующих поселениях: города Пестово и Б-оровичи (Новгородская область), Новозыбков (Б-рянская область), Семенов (Нижегородская область), Касимов (Р-язанская область), Волгодонск (Р-остовская область), Медвежьегорск (Р-еспублика Карелия), Кириллов (Вологодская область, Первоуральск (Свердловская область), Усть-Илимск (Иркутская область), Ч-ернушка (Пермская область), Р-ыбинск (Ярославская область); поселки Пяозеро (Р-еспублика Карелия), Р-устай (Нижегородская область), Октябрьский (Мурманская область), а также региональные центры – Москва, Тверь, Р-язань, Новгород, Нижний Новгород, Великий Новгород, Петрозаводск и Б-рянск.
ХАЛИй
Ирина
Альбертовна – к. с. н., ученый секретарь Института социологии РАН
В течение последних 10 лет в названных местах проводился ряд самых разнообразных исследовательских проектов, для каждого из которых были определены свои цели (в том числе формулируемые не самими учеными, а заказчиками) и свои методы сбора данных и их анализа. Но все они объединялись общим научным подходом исполнителей – всеми доступными способами собирался материал о жизни каждого сообщества в целом (включая контекст их существования и развития). Применялись и качественные и количественные методы сбора данных – опросы, фокус-группы, глубинные и экспертные интервью, включенное наблюдение, изучение конкретного случая. Это позволило подвергнуть весь собранный массив данных комплексному вторичному анализу.
Новое осмысление имеющихся данных производится на основе деятельностно-активистского подхода с учетом теоретизирований, посвященных проблемам глобализации. Понимая и принимая положение о том, что современное общество – есть сетевая структура, поддерживающая движение глобальных потоков
(М. Кастельса, Дж. Юри и др.)1, ввиду чего ни место, ни актор (как действующий и влиятельный субъект) не имеют радикального значения, но, соглашаясь одновременно с тем, что все же ни то, ни другое не прекратило своего существования и продолжает оказывать определенное воздействие на мировые социальные и политические процессы (А-. Турен, З. Б-ауман)2, мы попытаемся выявить основные характеристики «места», которые сегодня имеют значение для развития российского общества, осуществления полномочий всех уровней и ветвей власти и которые, вероятно, будут оказывать влияние в ближайшем будущем.
Кроме того, исследование местных сообществ – есть изучение адаптационного потенциала российских трансфор-маций3. От того, что собой представляют собой местные сообщества, в которые самим местом своего проживания объединены рядовые «граждане страны», каковы их поведение и действия, устойчивые социальные практики, есть ли среди них носители инноваций и традиционализма и кто эти носители, во многом зависит реализация демократического и модер- низационного проекта в Р-оссии, а также ее включение в глобальные потоки.
общие условия жизни российских локальностей
Таких условий несколько. Первое – пространственная замкнутость поселений. Все они в разной степени (от почти полной недоступности до относительной близости) оторваны от остального российского мира (от крупных индустриальных и культурных центров, так и друг от друга). Для одних это означает почти полную изоляцию – для большинства членов местного сообщества отсутствует возможность держать регулярную связь с внешним миром (самые яркие примеры в наших исследованиях – бывшие лесорубные и шахтерские поселки, где природные ресурсы однозначно исчерпаны, а люди остались на своих местах, часто в таких случаях перестает поддерживаться почти вся транспортная инфраструктура – дороги, маршруты общественного транспорта и т.п. Для других – остается доступной связь лишь с районным центром (отлаженная транспортная инфраструктура плюс близкое расстояние, что создает благоприятные технические и финансовые возможности для большей части представителей местных сообществ). Но связь с региональными и наиболее развитыми индустриальными и культурными центрами и для этой категории граждан остается весьма ограниченной. Это означает, что жители (причем далеко не все) российской глубинки могут выезжать туда на заработки, некоторые (если не сказать – единицы) способны отправлять детей там учиться. Однако наладить устойчивое взаимодействие (в торговой, производственной, социокультурной и т.п. сферах) удается лишь небольшой части локальностей.
Второе, общее для большинства, условие: пространственная замкнутость часто приводит к экономической отсталости, подтверждая тезис З. Б-аумана о том, что «богатство глобально, нищета локальна»4. Тот факт, что российские локальности в своем большинстве не являются узлом, обеспечивающим прохождение глобаль- ных потоков, более того, они не являются таким узлом даже для российских финансовых и производственных потоков, сам по себе свидетельствует об отсутствии в этих местах связанных с национальной экономикой ресурсов. Но еще хуже то, что даже если в некоем поселении находится крупное транснациональное или российское предприятие, это не означает, что местное сообщество в целом оказывается востребованным современной экономикой и что все его члены обретают более или менее равные возможности и ресурсы для собственной жизни.
Третье условие – вытекающая из первых двух иммобильность большей части (или по крайней мере большой части) населения российской провинции. В свою очередь такое условие жизни крепко привязывает основную массу жителей к месту, заставляя рассматривать его как единственно возможную среду своего обитания.
Ч-етвертое условие – низкий уровень доступа к информации. Знание о том, что происходит в мире и в месте своего проживания, возможность сообщать обществу о себе, об условиях стилях собственной жизни и существующих проблемах у местных жителей весьма ограничен. Центральная пресса недоступна большей части населения Р-оссии – и потому, что дорого стоит, и потому, что доставляется с опозданием (в некоторых местах – раз в неделю), и потому, что до сих пор не до всех населенных пунктов доходит теле- и радиосигнал, и потому, что Интернет для многих – даже не мечта, о нем просто не знают. В результате огромная часть российских граждан замкнута рамками местных СМИ (а в некоторых местах и таковых нет).
Е-ще сложнее гражданам заявить о себе. Это не всегда им удается (чаще – не удается) даже на местном уровне. Центральные СМИ транслируют собственные (а вероятнее, своих учредителей) мнение и изыскания о местной жизни. Ч-аще всего это выглядит так и приводит к таким же последствиям, как об этом пишет З. Б-ауман, говоря о западном обществе: «Тот факт, что «жители далеких мест» ассоциируются у нас с убийствами, эпидемиями и грабежами, играет еще одну важную роль. Р-аз они там такие чудовища, остается только благодарить бога за то, что он создал их именно там – далеко от нас, и молиться, чтобы там они всегда и оставались»1.
А- ведь информация – это не просто возможность знать, обладание знаниями – это возможность влиять на решения властей, в том числе касающиеся самой жизни граждан на местах. «Не только знание – сила, но и, что важнее, сила – знание», – вывод Б-. Фливберга2, к которому он пришел, изучая собственный родной город, и с которым невозможно не согласиться.
Пятое – неконтролируемость местных властей и их бездействие. Здесь влияние оказывают все вышеописанные условия. И действительно, насколько значимое влияние могут оказывать федеральные власти, если на местах главы районов в наших интервью частенько на подобный вопрос отвечали: «Где я, а где Путин? Он приехал и уехал, и нет его, а я здесь остаюсь». Внимание властей этого уровня уделяется лишь тогда, когда обостряется ситуация (как, например, в Кондопоге или в башкирском Б-лаговещенске), да и то это внимание краткосрочно.
Отсутствие информации у населения, отсутствие информации о реальных процессах, происходящих в локальностях, зависимость местных СМИ от ресурсных групп также ведет к бесконтрольности властей, как со стороны местных сообществ, так и со стороны российского общества в целом.
Крупные экономические акторы (если они есть) на местах тоже имеют все возможности действовать по своему усмотрению, часто даже не оглядываясь на местные власти или обладая и их поддержкой. О действенном контроле за ними вышестоящих властей речь возникает только в экстремальных случаях (как, например, в ситуации на Сахалине в связи с анти-экологичной деятельностью компании Шелл).
Все это приводит к формированию шестого, общего для всех локальностей, условия жизни – неустойчивости интересов в виду неустойчивости социальных групп, неспособности их сформулировать и актуализировать, то есть невозможности стратегического мышления не только отдельных местных жителей, но и местного сообщества в целом, включая и власти.
местные сообщества: наличие тенденций консолидации
Само понятие «сообщество» означает наличие какой-либо общности, чего-либо общего для определенной группы людей, в случае с местным сообществом – общего для целого конгломерата, некоторой, относительно замкнутой части общества. В связи с этим сразу возникает мысль о соотношении сообщества – общества, которую Теннис обозначил в своей известной формуле перехода от Gemeinschaft к Gesellschaft, то есть от с оо бщества к обществу.
Ч-то же такое сообщество, и существуют ли местные сообщества (как социальные, а не территориальные общности) в современной Р-оссии? Для ответа на этот вопрос необходимо проанализировать жизнь местного населения по нескольким признакам.
Б-ез сомнения, базовым признаком здесь является территориальная замкнутость (которая, как было выше показано, в нашей стране особенно ощутима) и ограниченность миграции членов сообщества. Однако из этого следует лишь одна черта общности – общее место проживания, – которая вполне может не стать основой для появления остальных признаков общности, вкупе создающих сообщество. И в первую очередь наличие различных типов и форм взаимодействия, которые, с точки зрения деятельностноактивистских теорий, обусловливают не только определенный и устойчивый образ жизни, но и его изменения. Эти взаимодействия обязательно должны иметь не только формы, разделяющие людей, но и консолидирующие их.
А- потому вторым базовым признаком местных сообществ должно быть взаимодействие различных социальных групп. И здесь современные российские местные сообщества демонстрируют, с одной стороны, распад сложившихся в советские времена форм взаимодействия не только по линии власть – население, но и по линии разделения труда (многие трудовые коллективы были разрушены в начале 1990-х гг. в связи с обвалом экономики страны, сохранившиеся коллективы сотрудников – учителя, медики и т.п. – превратились в своем большинстве в ато-мизированных индивидуумов, которые вне исполнения своих профессиональных обязанностей оказались в ситуации жесткой необходимости действовать в целях личного выживания – личного и своей семьи). Произошел развал взаимосвязей и на соседском уровне. Для советских людей нормой было взаимодействие на бытовом уровне, открытые и гостеприимные дома, относительное доверие к соседям, которых знали долгие годы. Ныне стратегия выживания требует изоляции, которая, по словам З. Б-аумана, до сих пор была в большей мере характерна для мегаполи-сов1. Р-азрушилась даже зафиксированная социологами на примере малых городов США- «иллюзия равенства», вызывающая чувство общности местных жителей. Иными словами, многое из того, что было традиционным для советских местных сообществ, в 1990-е гг. оказалось разрушенным в той или иной мере.
Однако в условиях оживления экономики стали заметны и обратные процессы – возникновение новых форм взаимодействия, возрождение некоторых старых, но уже в измененном виде. Так, вынужденная миграция создает или возрождает идентичность «мы – они» по отношению к тем, кто уже является частью местного сообщества. В самых тяжелых случаях (почти полной отчужденности от внешнего мира) возникает другой тип идентичности – «мы тут, они там». Р-азделяет местное сообщество и одновременно консолидирует отдельные группы наличие предприятий крупных корпораций (мы – работники, они – все остальные жители). А-бсолютно новый тип идентичности местного сообщества в целом (даже если не все отдают себе в этом отчет) вызывает проникновение глобализации в российские локальности – идентичность места, суть которой в формуле «я – гражданин своей малой родины». Вследствие иммобильности основной части населения страны, многие люди осознают себя, свою жизнь и жизни последующих поколений неразрывно связанными с местом проживания – непосредственной средой обитания. Именно качество этой среды (всех ее составляющих – экономического положения и состояния социальной сферы, действующей системы управления и установившегося способа принятия решений, степени институционализации экологической политики и характеристики окружающей среды) полностью определяют сегодня уровень и образ жизни многих местных сообществ1. Наконец, впервые возникает консолидация в виде самоорганизации населения, принимающей форму неправительственных организаций, которые стремятся выражать и представлять интересы тех или иных групп местного населения – это процесс развития демократии снизу в условиях, не вполне к этому располагающих, но все же предоставляющих некоторые возможности – социальные и политические. Сегодня мы можем констатировать, что во многих (если не в большинстве) городах и поселениях нашей страны таких организаций насчитывается в среднем до десяти. Б-олее того, в ситуациях всеобщего для отдельного местного сообщества или нескольких сообществ риска (например, в связи с прокладкой нефтепровода по берегу озера Б-айкал) неправительственные организации оказываются способными эффективно мобилизовывать население на борьбу за свои интересы. Можно утверждать, что современные риски во многом и часто являются катализатором солидаризации местных сообществ.
Таким образом, на данном этапе развития в местных сообществах проявляются тенденции к консолидации, что позволяет говорить о процессе преобразования, пусть медленного и неоднозначного, местного населения в некую общность или общности, способные сформировать впоследствии местное сообщество как единую общность в целом.
стили управления и типы социального взаимодействия
Р-оссия сильна (или слаба?) тем, что при наличии ряда общих для всех условий имеет огромное многообразие социальных реалий. Это многообразие можно систематизировать по различным основаниям. Однако одним из самых главных сегодня на местном уровне остается стиль реализации властных полномочий адми- нистративными органами, поскольку в большинстве случаев именно это определяет большую часть разворачивающихся здесь социальных процессов.
Хотя стиль управления местных властей практически повсеместно носит авторитарный характер, что подтверждается не только рядовыми членами местных сообществ, но даже чиновниками областной администрации одного из самых продвинутых в экономическом и демократическом смысле регионов Р-оссии, тем не менее этот авторитаризм проявляется по-разному. Это позволяет на этой данной основе определенным образом классифицировать способы взаимоотношений властей с местными сообществами:
– подчинение сообщества власти;
– попытки реализации демократических отношений власть – сообщество;
– полное отсутствие исполнения властью своих функций.
Но и внутри этих типов отношений есть свои деления. Р-азберемся в этом последовательно.
В первом типе взаимоотношений доминирование власти бывает практически безграничным. Это, конечно, не означает, что администрация не соблюдает требуемых или принятых в современном российском обществе процедур, или что ликвидированы представительные органы, просто и то, и другое жестко контролируется главой администрации. Б-олее того, почти полному контролю подлежат и местные СМИ, учредителем которых является все та же администрация2. Но и в этих условиях продолжают действовать и возникать новые неправительственные организации. И не все они инспирированы властью и подотчетны ей. Е-сть и такие, которые выражают протест при необходимости и которые стараются так или иначе участвовать в принятии решений3. Но и это не все. Понимая силу властной стороны, происходит постепенное объединений усилий различных неправительственных организаций (например, объединения местных предпринимателей и экологической общественной организации), в отдельных случаях они создают собственную газету для выражения и придания публичности альтернативного мнения.
К этому же типу можно отнести и некоторым образом отличные отношения авторитарной власти и местного сообщества. В местах, где есть устойчивые риски (например, районы радиоактивного загрязнения, полученного в результате чернобыльской катастрофы, в Р-оссии), власти, которым невозможно справиться в одиночку со всем тем, что требуется делать для выживания поселения, пусть и нехотя, но идут на сотрудничество с неправительственными организациями и даже создавют вместе с ними местные СМИ1.
Второй тип – стремление к демократизации – также следует разделить на две модели. Наиболее распространенным является такой стиль управления, при котором власти, не имея опыта работы в демократических условиях, реализуют лишь внешние признаки демократии, применяя соответствующую риторику, стараясь максимально не вмешиваться в происходящее. Это отражается и в местных СМИ, в которых практически невозможно найти материалов от лица представителей администрации, вплоть до публикации официальных документов. Но есть и реальные попытки демократизации, когда власти допускают, но весьма дозированно, участие общественности в принятии решений, вплоть до заключения официальных договоров между администрацией и неправительственными организациями2. Иногда такое происходит и при абсолютно авторитарной власти под давлением сообщества3.
Наконец, последний тип отношений также содержит в себе как минимум две модели. В рамках одной из них полное безвластие приводит к диалогу всех остальных акторов в попытке повлиять друг на друга (например, экологи-общественники пытаются заставить местные предприятии осуществлять производственный процесс более экологичным способом). Пространством такого диалога становятся местные СМИ. Однако все усилия оказываются напрасными, поскольку некому принимать окончательные решения4. При реализации другой модели в экономически весьма благоприятных условиях местное сообщество вообще никак не реагирует на отсутствие власти, хотя в интервью выражает озабоченность многими городскими проблемами.
заключение
Изучая то, что происходит в самом «низу», то есть то, как люди на местах взаимодействуют друг с другом, мы пытались продвигаться к анализу проблематики социальных общностей и механизмов их функционирования в современном мире перманентных трансформаций, стараясь определить перспективы дальнейшего развития в связи с восприятием, поведением и социальными действиями того трансформационного слоя, который Т.И. Заславская назвала «базовым»5.
В результате наши данные, во-первых, подтверждают наличие подвижности социальных систем на современном этапе, сопровождающееся сохранением элементов устойчиво существовавшего ранее уклада (и в советские, и в досоветские времена). Б-олее того, эти изменения базируются на прошлой устойчивости, видоизменяются не только под воздействием происходящего «здесь и сейчас», но и с опорой на прошлое. Во-вторых, нами отмечается становление новых типов и форм взаимосвязей и взаимодействий, то есть формирование нового социального порядка. В-третьих, эти новые взаимовлияния зависят не только от контекста их становления и развития, но в большей мере являются «продуктом конструирования субъектами». Все это позволяет интерпретировать современную ситуацию как «открытый сценарий», ибо реальность, очевидно, зависит от конкретных социальных, экономичес- ких, политических действий социальных субъектов и от их восприятия/интерпре-тации отдельными людьми и сообществами, участвующими в построении новой реальности.
Наше исследование показало, что рациональность выбора местных жителей – не мечтать быть востребованным экономикой, но делать для своего выживания то, что возможно, а социокультурные основания такого выбора – делать то и так, что и как умеем, применяя исторически сложившиеся формы и навыки жизнедеятельности и жизнеобеспечения, подчас даже избегая инноваций. Ч-его «нашему» человеку при этом не хватает, так это «практических знаний». Причем их не хватает обывателю для собственной ориентации в окружающем мире с целью определения, как выжить. Их не хватает субъектам социального действия, поскольку неустойчивость только складывающихся институтов не позволяет выстраивать тактику и стратегию действий. Их недостает и тем, кто является «конструктором» трансформаций, ибо они имеют слабое представление (и это представление изменчиво) о том, как производящееся реформирование воспринимается «базовым слоем».
Наше внимание, как сторонников деятельностно-активистского подхода акцентировалось на метаморфозах практических взаимодействий социальных субъектов, которые являются одной из важнейших причин социальных изменений и устойчивости общественных структур. На самом деле от активной деятельности конкретных социальных субъектов сегодня часто зависит налаживание взаимоотношений, никто, кроме них, не берет на себя функцию координации действий и налаживания сотрудничества (как показали наши исследования, нередко это зависит от частной инициативы отдельного лица – будь то чиновник или «общественник»). Местные власти их на себя не берут, поскольку они не заявлены жестко в их должностных обязанностях, а если и прописаны в них, то уж точно никогда и никем не контролируется их выполнение. Важно и влияние того факта, что произошла утрата этих функций теми, кто в прежние времена их исполнял – ярчайший пример здесь градообразующие предприятия. Однако не следует сбрасывать со счетов и вли- яние на этот процесс социально-экономического контекста, в том числе и производственных отношений, которые стали выражаться в новой форме – в виде сообществ, вовлеченных в экономику, и невовлеченных в нее.
Нами выявлены типы социокультурных установок, действительно консолидирующих местные сообщества, их как минимум пять: 1) однонаправленный протест; 2) выживание; 3) сохранение местных условий жизни; 4) ожидание помощи извне в сочетании с обреченностью на выживание собственными силами; 5) ожидание активной поддержки от сильных экономических или культурных акторов – членов данного сообщества.
Качественные различия сообществ определены нами по критерию особенностей социальных взаимодействий. Мы обнаружили их среди групп внутри изучаемых нами местных сообществ. Первое – выделяется группа субъектов социального действия, особенностью которой является стремление не только к налаживанию взаимодействий с другими субъектами, но и к отстраиванию механизмов таких отношений, то есть к созданию институтов. Второе – из групп субъектов социального действия выделяются акторы, стремящиеся создать некоторое сообщество, то есть выступают созидателями осознанного объединения граждан и их организаций, которые могут целенаправленно и совместно действовать для разрешения стоящих перед ними и обществом проблем. К ним следует отнести соседские сообщества, консолидацию деятельности неправительственных организаций, возникновение временной солидаризации местных жителей в экстремальных ситуациях. Третье – группа, включающая в себя местных жителей, выпадающих из сферы социальных взаимодействий. В нее входят, конечно, этого не осознавая, все те, чье поведение называется девиантным. Таким образом, первые две группы активно участвуют в созидании нового социального порядка, третья группа – влияет на этот процесс весьма опосредованно.
Тем не менее следует подчеркнуть, что в большинстве случаев отсутствует готовность местных жителей к коллективным действиям по обустройству жизни своих сообществ при слабом, по их мнению, выполнении соответствующих функций местными властями. Выявлено в целом позитивное отношение наших граждан к неправительственным (общественным) организациям при весьма низком уровне информированности об их деятельности и неготовности присоединяться к ним. Можно констатировать, что местные сообщества являются порождающей общественные организации средой1, не являясь при этом средой их поддерживающей.
Также анализ местных сообществ позволил выявить черты современного российского традиционализма, которые, по нашему мнению, заключаются в следующем:
-
1. Невовлеченность основ но й массы населения (членов местных сообществ) в самоорганизационную деятельность и готовность к вовлечению в общественную (коллективную) деятельность, организуемую сверху (властями, возможно, крупным бизнесом).
-
2. Принятие патернализма как осно в ной формы взаимодействия государства с гражданами, большинством населения (от них и только от них можно что-то получить). Этот патернализм сопряжен с жесткой установкой основной работоспособной части рядовых россиян на осуществление самостоятельной (но не коллективной, в лучшем случае, коллектив может представлять семья) деятельности, направленной на выживание, и с отсутствием ожиданий качественной и решающей поддержки со стороны властями предержащими.
-
3. Отсутствие у самой властной э литы (а также у представителей других элит, включая элитарные круги интеллиген-
- ции) установки на взаимодействие с населением, на поддержание развития гражданского общества, на создание институтов (устойчивых практик, каналов, площадок, процедур и т.п.), направленных на организацию общественного диалога.
-
4. В результате вышеозначенной пози ции элит все виды и уровни СМИ практически не транслируют информацию о самоорганизации граждан, причинах и условиях ее возникновения, ее целей, возможных и реальных достижений.
-
5. Н е пол у чая с о ответствующей информации, рядовые граждане не знают о деятельности организаций гражданского общества, а потому не рассматривают их как социальных акторов, способных оказать реальную помощь, тем более что власти очевидно их не поддерживают.
-
6. В итоге не обнаруживается даже стремления основной массы граждан вступать во взаимодействие с властями по собственной инициативе для организации процесса согласования интересов, взаимодействие осуществляется только в тех случаях, когда остро необходимо или вероятно получить от конкретных властных структур или чиновников реальную помощь.
-
7. Б-ольшой части рядовых членов местных сообществ (и не только старшего поколения, но и их детям и внукам) свойственна ностальгия по прошлому. В советские времена государство несло ответственность за все и обеспечивало гарантии выживания своих граждан, предоставляя, кроме того, возможности для организации досуга и коллективного времяпрепровождения (спортивные соревнования, самодеятельность, работа клубов и т.п.), позволявшие членам местных сообществ ощущать некоторое единение друг с другом.