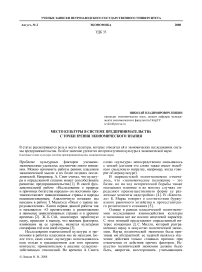Место культуры в системе предпринимательства с точки зрения экономического знания
Автор: Левкин Николай Владимирович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 2 (93), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается роль и место культуры, которые отводятся ей в экономических исследованиях системы предпринимательства. Особое значение уделяется истории изучения культуры в экономической науке.
Культура, система предпринимательства, экономическая наука
Короткий адрес: https://sciup.org/14749429
IDR: 14749429 | УДК: 33
Текст научной статьи Место культуры в системе предпринимательства с точки зрения экономического знания
Проблеме культурных факторов учеными-экономистами уделялось достаточно много внимания. Можно вспомнить работы ранних классиков экономической мысли и их более поздних последователей. Например, А. Смит считал, что культура в определенной степени может способствовать развитию предпринимательства [1]. В своей фундаментальной работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» он постоянно противопоставляет цивилизованные страны и народы нецивилизованным. Аналогичную позицию мы находим в работе Т. Мальтуса «Опыт о законе народонаселения». Книга первая данной работы так и называется: «О препятствиях к размножению в наименее цивилизованных странах и в древние времена» [2]. Ж. Б. Сэй, анализируя заработную плату, приходит к выводу, что важным фактором, влияющим на ее уровень, является культурная специфика той или иной страны [3].
Исследования взаимосвязей культуры и экономики в работах классиков мы не находим. Более того, само слово «культура» использовалось ими только в традиционном для того времени контексте: применительно к анализу сельскохозяйственных отношений. Во времена А. Смита слово «культура» непосредственно связывалось с землей (сегодня это слово также имеет подобную смысловую нагрузку, например, когда говорят об агрокультуре).
В марксистской политэкономии отмечалось, что «экономическое положение – это базис, но на ход исторической борьбы также оказывают влияние и во многих случаях определяют преимущественную форму ее различные моменты надстройки» [4]. В «Капитале» К. Маркс говорит о соответствии буржуазного рыночного хозяйства и протестантского религиозного сознания [5].
Однако в рамках классической политэкономии исследования взаимодействия культуры и экономики все же носили нецелевой характер. С этих позиций представляет определенный интерес концепция Д. С. Милля, который разграничивал науку и искусство политической экономии. Наука политической экономии была признана им абстрактной: ее задачей являлось изучение действия только «главных причин» при отвлечении от действия прочих факторов. Искусство политической экономии должно было быть, напротив, всесторонним, учитывающим
исторический и культурный контекст использования общих принципов [6].
Состояние политэкономических исследований XVIII–XIX веков может быть объяснено общим уровнем развития экономической науки, который во многом определялся историческим фоном эпохи первоначального накопления капитала. В этих условиях фактор культуры воспринимался как малосущественный. Большое влияние на классическую политэкономию, по-видимому, оказала и мировоззренческая позиция, характерная для всего научного сообщества того времени, которую отличала механистическая картина мира. С развитием капитализма отношение к культурным факторам в политэкономических исследованиях начинает меняться: происходит осознание их важности и необходимости учета при изучении экономической жизни общества.
Первым комплексным исследованием можно назвать подход, в рамках которого стала изучаться роль культуры в становлении капиталистических отношений. Суть этого подхода заключается в том, что капитализм есть продукт развития западноевропейского общества. Его сторонники считали, что феномен капитализма носит универсальный и всепланетарный характер; просто в силу институциональных и культурных (религиозных) факторов он впервые возник именно в Западной Европе. Появление этого подхода, как правило, связывают с работами М. Вебера, который считал, что рождению капитализма во многом способствовала протестантская этика [7]. Экономический успех Европы он связывал с уникальным совпадением на определенном этапе ее исторического развития духовной жизни и материальной заинтересованности [8]. При этом зарождение капитализма М. Вебер определил следующими характеристиками протестантизма: христианский аскетизм; предпринимательская деятельность как мерило «земного» и «небесного», как путь человека к спасению; благоразумие; ярко выраженный индивидуализм. Сегодня теория М. Вебера подвергается критике за историко-описательный подход (статистические данные, которыми оперировал ученый, а также использованные им методы статистического анализа были несовершенны). Высказывается также крайняя позиция по поводу того, что религия вообще не оказывает какого-либо влияния на экономику (скорее, наоборот: экономика предопределяет религию). К примеру, голландский ученый Г. Хофштед показывает в своих исследованиях, как экономические изменения (прежде всего, экономический рост) приводят к демографическим сдвигам, а те, в свою очередь, способствуют культурным и религиозным изменениям. Последние исследования по данной теме, действительно, выявили определенную зависимость между религией и уровнем развития экономики. Но в целом эти исследования носят противоречивый характер [9]. Ставится под сомнение и вопрос о влия- нии христианской аскезы на формирование этики предпринимательства: экономический рост, «продемонстрированный странами с преимущественно конфуцианским, буддийским или мусульманским миросозерцанием… доказывает, что христианская аскеза – не единственный духовный источник предпринимательской культуры. Кроме того, и католицизм отнюдь не противостоит предприимчивости. Эволюция социально-экономического учения и практика католической церкви свидетельствуют о ее склонности к поощрению предпринимательства…» [10]. Были предприняты даже попытки доказательства исключительной роли католицизма (а не протестантизма, как это было у М. Вебера) в формировании капитализма [11]. Таким образом, идеи М. Вебера вызвали к жизни плодотворную дискуссию о роли и месте культуры в становлении капиталистического образа жизни, которая продолжается и сегодня.
Однако самое сильное влияние на развитие знания экономистов о роли культуры в экономике оказали работы не М. Вебера, а представителей немецкой исторической школы, которые доказывали, что экономические законы напрямую зависят от культурных и исторических обстоятельств жизни общества. По их мнению, сформировавшиеся в различных странах экономические институты отличаются друг от друга, а в основе их динамики лежит глубинный процесс проявления народного духа, который и определяет развитие всего человеческого общества [12]. При этом экономические факторы выступают базой для понимания изменений в культурной жизни. Изучение этих факторов способно помочь проникновению вглубь явлений для понимания будущего.
Интересным представляется взгляд на соотношение экономической теории и хозяйственной, а также культурной практики одного из основоположников исторической школы – А. Шпитгофа, который отмечал, что в той мере, «в какой возможность применения экономической теории зависит от наличия и степени преобладания определенного хозяйственного стиля, элементы которого воплощаются в системе теоретических положений, в той же мере сама экономическая теория является "исторической категорией"» [13]. Кроме того, А. Шпитгоф разделил экономическую теорию на три подраздела:
-
1. Внеисторическая чистая теория, которая выглядит универсальной и использует построения, именуемые моделями; уместность применения большей части их сомнительна.
-
2. Историческая теория, которая может оперировать либо нормативными, либо позитивными построениями в качестве орудий анализа.
-
3. Экономическая история, рассматривающая чередование уникальных исторических событий. Таким образом, была предпринята попытка «примирить» три господствовавшие в то время ветви экономической науки – классическую политэкономию, историческую школу и маржина-
- лизм. (Напомним, что центральной проблемой маржиналистской теории было изучение полезности: маржиналисты пытались вывести универсальные экономические законы и считали, что какое бы общество мы ни рассматривали, сама полезность экономического блага зависит только от психологической основы поведения людей.)
Немецкой исторической школой было предложено учение о трех этапах в развитии экономики, которое впоследствии было «растиражировано» в новых версиях более поздними экономическими теориями и школами. Например, Р. Бенджамин и Р. Дювал предложили различать три главные стадии в развитии капитализма: примитивный капитализм, конкурентно-индивидуалистический капитализм и поздний капитализм [14]. Спустя некоторое время теоретики постиндустриального общества высказали аналогичную идею о трех стадиях развития экономической системы: традиционной, индустриальной (капиталистической) и постиндустриальной.
Отдельно следует отметить теории, которые обязаны своим рождением как марксизму, так и исторической школе. Эти теории рассматривали капиталистическую систему также как проходящую, делая акцент на кризисных явлениях в развитии капитализма. Например, Й. Шумпетер считал, что причины гибели капитализма кроются не в экономике, а в образе мыслей людей, определяющих ее культурную прослойку. Первоначально капиталистический образ мыслей был рационален и логичен, поскольку сама природа экономических поступков заставляла предпринимателя действовать рационально. Однако сегодня, как отмечал Й. Шумпетер, в результате технического прогресса деятельность предпринимателя по внедрению новшеств значительно сократилась и сводится к простой рутине. Эти изменения приводят к вытеснению мелких предпринимателей. Начинает господствовать крупный акционерный капитал, существование которого подрывает основы капиталистической экономики (похожие идеи мы находим в работах Дж. Гэлбрейта) [15]. Таким образом, Й. Шумпетер исходил из того, что при изучении капитализма необходимо учитывать человеческий фактор с культурными и историческими аспектами [16].
Оказалась также востребованной идея немецкой исторической школы о «прогрессивности» экономики христианской цивилизации по сравнению с нехристианским миром. (Даже в работах А. Маршалла можно найти определение неевропейских культур как примитивных, хотя в целом все остальные идеи немецкой исторической школы были проигнорированы этим ученым.)
Другим представителем исторической школы – Г. фон Шмоллером – была высказана идея о противоречивости развития капиталистической экономики. С одной стороны, в основе капитализма лежит «инстинкт конкуренции», который благоприятно сказывается на экономической динамике общества. С другой стороны, в результа- те развития склонностей людей, которые определяют их место в обществе, и «инстинкта конкуренции» важную роль в эволюции общественных институтов стало играть стремление к обогащению. Такие устремления, если их не ограничивать, могут вести к подрыву всего механизма функционирования общества; ограничивать и контролировать их необходимо с помощью этических норм [17]. Г. Шмоллер считал экономические институты бисмарковской Германии самыми эффективными и предлагал распространить их на все уголки земного шара. Таким образом, возникло классическое представление об эволюции западного капитализма: экономический успех Германии, Великобритании, Франции и США объяснялся культурными факторами, свойственными только этим странам и связанными с индустриализацией. Отражение этой идеи мы находим в работах представителей многочисленных теорий экономического роста и модернизации [18]. Например, в модели У. Ростоу этапы экономического роста связывались с накоплением основного капитала; модель Харрода – Домара строилась на основе фактического материала, характеризующего экономику только США и Великобритании (затем полученные выводы распространялись на другие национальные экономические системы). На этой базе возникли многочисленные теории догоняющей модернизации, влияние которых испытала на себе и российская экономическая система в начале – середине 1990-х годов. И сегодня в среде ученых можно встретить установку на то, что феномен саморазвития капитализма должен объясняться особенностями, присущими европейской культуре (системный плюрализм разнообразия религиозных и культурных традиций, а также высокая степень индивидуальной предприимчивости в условиях большой дифференциации общественных структур).
Теории представителей немецкой исторической школы первых поколений были подвергнуты развернутой критике. Не вдаваясь подробно в суть этой критики, приведем лишь мнение Т. Веблена, который не мог принять понимание истории как процесса развития по воле гегелевского духа (а именно такой была исходная установка немецкой исторической школы), так как вытекающая из такого понимания теория развития могла быть лишь сугубо умозрительной [19].
Следующий этап в развитии представлений экономистов о взаимодействии культуры и предпринимательских систем открывается работами институционалистов (прежде всего, Т. Веблена и У. Митчелла), которые рассматривали экономику как динамичный процесс развития сложной системы, обладающей определенными культурными нормами и установками, влияющими на индивидуальное поведение и предпочтения людей. Существующие институты, по их представлениям, достаточно часто являются наследием прошлого. Реализация «культурного лага»
(то есть противоречия между прошлым и настоящим) не способствовала, по мнению институционалистов, эффективному распределению экономических ресурсов. Т. Веблен объясняет феномен «культурного лага» на примере взаимоотношений «старой» и «новой» элит: новая капиталистическая элита, чтобы подчеркнуть свое отличие от старой землевладельческой элиты, начинает «по-другому» потреблять предметы роскоши. Отсюда возникает знаменитый эффект Веблена или, иначе, эффект показного (праздного) потребления. Этот эффект объяснялся Т. Вебленом также жаждой наживы, которая препятствует производству полезных вещей: поскольку культура капиталистического общества пронизана властью денег, соперничество людей неизбежно принимает денежные формы. Чтобы утвердить свое влияние в обществе, люди приобретают дорогие, роскошные предметы, не являющиеся необходимыми для поддержания жизни; богачами восхищаются, потому что они богаты, и даже произведения искусства несут на себе знак доллара. Т. Веблена можно считать первым ученым, который попытался описать бизнес-культуру своего времени. Его раздражали фантастическое расточительство и неэффективность, которые одобрял культ современного ему бизнесмена.
Представляют определенный интерес и воззрения институционалистов на рынок, который они рассматривали как культурный феномен, влияющий на общественные нормы поведения [20]. По мнению Т. Веблена, формирование рыночного спроса - это социально-культурный процесс, который зависит от большого количества переменных: социальные привычки, реклама, распределение доходов, потребительская культура и т. п. Отметим также тот факт, что ученый определял институт как стереотип мысли, отнеся это явление к феноменам культуры [21].
Институционалисты, испытавшие на себе огромное влияние идей немецкой исторической школы, во многом шли по следам своих предшественников. Экономики США и Великобритании были взяты ими за идеал, по образу и подобию которого должны были строиться национальные экономики других стран. Возникли различные классификации, предлагавшие делить страны на «наименее развитые», «развитые», «новые индустриальные страны», «индустриальные», «постиндустриальные» и т. п. Важно отметить еще один момент, связанный с анализом работ ранних институционалистов: институциональный ракурс уже предполагает выход за пределы собственно экономических дисциплин, необходимость изучения всех факторов, формирующих культурную среду, в которой протекают экономические процессы. Междисциплинарность предопределена у институционалистов идеей системности (холизма), согласно которой общество есть многоплановый и многоуровневый целостный организм [22]. Такой подход формировался в проти- вовес неоклассической методологии, предполагающей возможность выводить свойства экономической системы в целом из свойств отдельных ее элементов без учета культурных аспектов. Для институционалистов было характерно стремление противопоставить теории неоклассиков изучение конкретно-исторических и национальноспецифических форм экономической жизни. По их мнению, система институтов как некая целостность образует «данную культуру», или определенный тип цивилизации. Так, например, последователь Т. Веблена К. Э. Эйрс утверждал, что образ действий человека может быть объяснен лишь исходя из культуры, в условиях которой он живет. Подобно антропологам, он интересовался, например, тем, какое влияние на экономическое поведение могут иметь такие общественные явления, как табу [23]. По его мнению, экономист как исследователь общества не может уйти от свойственного человеку интереса к ценностям и тем самым от этических проблем.
Большое влияние на развитие ранних идей институционалистов оказали работы К. Маркса и Ф. Энгельса. Прежде всего, это интеграция экономического и социологического анализа, историзм и рассмотрение экономики как динамической системы. С другой стороны, в большинстве работ, носящих институциональную окраску, марксизм был подвергнут развернутой и резкой критике. Таким образом, «старый» институционализм выступает как теория, критически воспринимающая идеи марксизма, и как теория, критикующая неоклассику за ее отрыв от реальной жизни. В первом случае концепции культуры не уделяется сколько-нибудь должного внимания. Во втором случае критика неоклассики исходит главным образом от социологии и смежных с ней социальных наук. Это означает, что и восприятие культуры идет в русле не экономического, а социологического знания. В связи с этим, несмотря на то, что «старые» институционалисты уделяли много внимания культурным факторам [24], мы не будем далее останавливаться на изучении культуры в «старом» институционализме (тем более, что ряд моментов, касающихся этого вопроса, уже был освещен). Отметим лишь, что в ранних институциональных работах понятие культуры воспринималось в максимально широкой трактовке («культура» = «цивилизация»; «культура» = «культура общества в целом»; «культура» = «культура определенного класса» и т. п.). С экономической точки зрения наибольший интерес вызывает вопрос о значении культуры в жизни предпринимательских систем с позиции неоинституционализма и новой институциональной экономической теории. Это связано с тем, что, в отличие от «старого» институционализма, новый институционализм значительно ближе, с одной стороны, к неоклассической теории (серьезному ограничению подвергается лишь предположение о рациональности поведения и принимается идея Г. Саймона об ограниченной рациональности) [25], а с другой, – к проблематике управления предпринимательскими системами. Здесь обращается внимание на возможные угрозы оппортунистического поведения экономических субъектов, то есть следования своему интересу с помощью неблаговидных средств путем утаивания и искажения информации, отлынивания и нарушения обязательств [26]. Оппортунизм связан со специфичностью активов и возникающей вследствие этого асимметрией информации, не позволяющей эффективно контролировать действия хозяйственных агентов. Именно учет фактора ограниченной рациональности и предотвращение оппортунистического поведения с позиции нового институционализма обуславливают необходимость существования деловых организаций (фирм) в противовес рыночному взаимодействию. В рамках современного институционализма также развиваются исследования социальнокультурных факторов экономического развития, опирающиеся на традиции М. Вебера [27]. Например, английский ученый Э. Тайлкот анализирует несколько парных характеристик европейской предпринимательской культуры («аристократическая – буржуазная» и «индивидуалистическая – авторитарная»), показывая тем самым, как социально-культурные стереотипы влияют на предпринимательскую деятельность [28]. «Буржуазная» культура Германии обуславливает преобладание в этой стране производственных, прикладных сфер деятельности. В Великобритании, благодаря «аристократической» культуре, особый интерес у предпринимателей проявляется к маркетингу, праву и финансам. «Буржуазное» отношение к бизнесу характерно для стран, где преимущественно распространена протестантская этика. Данный тип предпринимательской культуры связан с традицией независимости городов от центральной власти. Различия между индивидуалистическим и авторитарным типами поведения проявляются в склонности и способности к инновациям (при этом индивидуалистический тип способствует инновациям, а авторитарный, наоборот, препятствует).
К 1920–30-м годам работы институционалистов стали вытесняться исследованиями неоклассиков, активно внедрявших новейшие методы статистики и математики. Появляется точка зрения, отстаивающая тезис о том, что соотносить «нормы человеческой культуры с экономическим поведением – значит лишь обнаруживать политические симпатии» [29]. По Ф. Найту, отрицать универсальность экономических принципов – значит лишь обнаружить пристрастность. Хотя проблемы исторического наследия и исторических перемен крайне важны, они все же не являются подлинной сферой исследования для экономиста-теоретика. Математический аппарат, от использования которого институционалисты были очень далеки, способствовал быстрому прогрессу в экономическом знании. Во введении к своей книге «Основы экономического анализа» нобелевский лауреат П. Самуэльсон называет 1930-е годы, когда математика только вводилась в экономический анализ, золотым веком. Вдруг оказалось, что все прежде нерешенные проблемы, по поводу которых долгие годы велись безрезультатные дискуссии, могут быть решены с помощью математических методов. П. Самуэльсон сравнивает это с рыбалкой в диком озере: закидывая удочку, всякий раз вытаскиваешь громадную рыбину.
В свою очередь, кейнсианская революция надолго «отвлекла» экономическую мысль от проблемы взаимоотношений культуры и экономики. В центре внимания в этот период находится проблема изучения равновесных состояний. Переход от изучения статических равновесных состояний в экономике к динамичному равновесию возвращает экономистов к идеям экономического роста. Однако и в рамках этих моделей культурные и исторические факторы игнорируются. В связи с этим можно процитировать слова американского исследователя П. Бэрэна, который писал о неокейнсианских моделях роста следующее: «Постулируя существование адекватного прямого или косвенного контроля над поведением ключевых параметров, которого в действительности не существует, предполагая отсутствие монополий, влияние которых в действительности носит постоянный и всепроникающий характер, предполагая в длительном плане полную занятость, в то время как она является скорее исключением, чем правилом, нынешние модели абстрагируются не от второстепенных черт того процесса, который они пытаются объяснить, а от его существа... Они заменяют капиталистическую экономику воображаемой рациональной системой, которая не имеет ничего общего с капитализмом, кроме названия. Стоит ли говорить о том, что результатом является апологетика статус-кво независимо от субъективных намерений автора» [30]. В соответствии с основными постулатами мэйнстрима экономической науки появляются многочисленные теории модернизации (макроэкономические модели экономического роста Р. Солоу, Дж. Стиглица, Дж. Хартвика и т. д.). Как уже было сказано, авторы всех этих теорий отталкиваются от ключевой идеи, заложенной представителями исторической школы и М. Вебером, – идеи «модернита», согласно которой главное в экономическом росте – это ключевые факторы, способствовавшие успеху развитых капиталистических стран, – рационализм, индустриализм, сциентизм [31]. При этом в историческом плане и здесь существует исключение, а именно работы Б. Хозелитца. Этот ученый считал, что при создании моделей экономического роста необходимо учитывать культурные и социологические элементы. Подход Б. Хозелитца – это первая попытка создания общей теории культурных и экономических изменений.
Интересных взглядов на роль и значение культурных факторов в хозяйственной жизни общества придерживались представители теории цивилизации (экономический детерминизм Ф. фон Хайека, Л. фон Мизеса; культурный детерминизм П. Сорокина). Для этого направления характерно представление о том, что развитие всех компонентов цивилизации рано или поздно приведет к возникновению рациональных форм, тем более что научно-технический прогресс в сфере коммуникаций ускоряет распространение передовых идей [32]. При этом независимо от культурных особенностей любое общество рано или поздно придет к осознанию важности для своего дальнейшего развития ключевых либеральных ценностей (частная собственность, свобода, мир, равенство, демократия и веротерпимость) [33].
Культурные факторы игнорируются не только в кейнсианских, но и в более поздних макроэкономических теориях. Например, основоположник монетаризма М. Фридман предлагал рассматривать в макроэкономическом анализе «гипотетическое» общество. Это общество «характеризуется следующими чертами:
-
1. Постоянная численность населения;
-
2. Заданы вкусы и предпочтения;
-
3. Объем физических ресурсов фиксирован;
-
4. Задан уровень производительного мастерства его членов; возможно, еще проще считать членов этого общества бессмертными и не меняющимися со временем (в таком обществе существует постоянное распределение индивидуумов по возрасту, полу и т. д., причем каждый из этих бессмертных людей как бы представляет временной срез семейной линии в альтернативной популяции со стареющими индивидуумами, но неизменной структурой);
-
5. Это общество стационарно, но не статично, его структура стабильна в том смысле, что постоянны лишь средние величины;
-
6. В обществе властвует конкуренция» [34].
Сегодня макроэкономы и теоретики моделей экономического роста приходят к выводу о зависимости траектории развития экономики от ее прошлого (в том числе и культурного). Не последнюю роль в переоценке места и роли культурных факторов в экономическом росте сыграли работы Г. Мюрдаля [35]. Последние исследования наглядно показывают, что функционирование финансовых институтов связано не только с инвестициями или с фазой экономического кризиса, но и с культурой [36]. Главным выводом «из развития теорий модернизации… является утверждение того факта, что культура, самобытные ценностные системы имеют устойчивое значение для развития общества на всех его этажах» [37]. Появляются попытки объяснения неудач данных теорий, суть которых заключается в том, что при догоняющей модернизации развитие оказывается неорганичным, основанным не на внутренних потребностях общества, а на его стремлении самоутвердиться. Кризис теорий модернизации привел к возникновению принципиально новых теоретических взглядов на проблему экономического роста. Новая парадигма модернизации включает в себя следующие черты [38]:
-
1. Значимость сложившихся социокультурных типов как основ устойчивости и самостоятельности общества;
-
2. Устойчивость ценностно-смысловых факторов в регуляции как политической, так и хозяйственной жизни;
-
3. Большая вариативность институциональных, символических, идеологических интерпретаций, которые различные общества и цивилизации дают реальным процессам модернизации.
Современные ученые приходят к выводу, что модель процесса мирового развития не однолинейна и не моноцентрична, хотя ориентация на один источник остается (имеется в виду западноевропейская цивилизация). Однако и на этих теоретических идеях научная мысль не останавливается. Появляются теории самобытности (суть которых заключается в акценте на изучении только эндогенных культурных факторов хозяйствования), теории антимодернизации (которые осуществляют поиск принципиально новых, самобытных путей на основе собственных духовных ценностей, норм и стереотипов деятельности путем противопоставления их глобальным установкам), синтетические и структурные концепции модернизации; теория «постмодерна» (которая делает акцент на новой культуре постиндустриального общества), концепция альтермодерна и т. д. Во многом появление всех этих теоретических конструкций было обусловлено тем, что агрессивное навязывание западной модели развития имело временами разрушительный характер для всех других цивилизаций. Как итог, незападные общества во все большей степени стали осознавать особенности своего развития, своей экономики и культуры. Возникновение новых течений и теорий можно связать с типами реакций на вестернизацию, которые сегодня наблюдаются во многих странах: отвержение западных ценностей в целом и противопоставление им своего традиционализма (например, исламский мир); попытки последовательного осуществления вестернизации и отвержение традиционализма (некоторые страны бывшего социалистического лагеря); стремление к синтезу традиционных и западных ценностей (Япония, Китай) [39]. К сожалению, большинство этих теорий развивается за рамками собственно экономического знания. За исключением редких случаев экономисты уступают данное тематическое поле для «возделывания» представителям других социальных наук – социологии, политологии, культурологии, этики.
Статья написана при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, номер гранта 07-02-42202a/C.
Список литературы Место культуры в системе предпринимательства с точки зрения экономического знания
- Anderson G. Mr. Smith and the Preachers: The Economics of Religion in the Wealth of Nations//Journal of Political Economy. 1988. № 5. Р. 1066-1088.
- Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения/Антология экономической классики. М.: Эконов-Ключ, 1993. С. 9.
- Сэй Ж. Б. Трактат по политической экономии/Сэй Ж. Б.: [Электронный ресурс]. Электрон. кн. Режим доступа к кн.: http://e2000.kyiv.org/biblioteka/biblio/sey.zip, свободный. Загл. с экрана.
- Маркс К., Энгельс Ф.Собр. соч. М.: Политиздат, 1965. Т. 37. С. 394.
- Маркс К., Энгельс Ф.Собр. соч. М.: Политиздат, 1960. Т. 23. С. 89.
- Ананьин О. И. Экономическая компаративистика и экономическая наука//Истоки: Экономика в контексте истории и культуры. М.: ГУ ВШЭ, 2004. С. 75.
- Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. С. 61-272.
- Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1968. С. 37.
- Noland M. Religion, Culture, and Economic Performance//Noland M. World Development. 2005. № 33 (8). P.1215-1232.
- Агеев А. И.Предпринимательство: проблемы собственности и культура. М.: Наука, 1991. С. 76.
- Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли... С. 44.
- Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли... С. 24.
- Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли... С. 47.
- Попов А. В.Теория и организация американского менеджмента. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 117.
- Попов А. В.Теория и организация американского менеджмента. С. 476-477.
- Винарчик П. Спасение идей: Й. Шумпетер и ключевые проблемы противоборствующих экономических теорий//Вопросы экономики. 2003. № 11. С. 24-25.
- Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли... С. 29.
- Тодаро М. П. Экономическое развитие: Пер с англ. М.: Экономический факультет МГУ -ЮНИТИ, 1997. С. 78-96.
- Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли... С. 63.
- Dugger W. The New Institutionalism: new but not institutionalist//Journal of Economic Issues. 1990. № 24 (2). Р. 423-431.
- Ананьин О. Исследовательская программа Торстейна Веблена: 100 лет спустя//Вопросы экономики. 1999. № 11. С. 57.
- Козлова К. Б. Институционализм в американской политэкономии: Идейно-теоретические основы либерального реформизма. М.: Наука, 1987. С. 23.
- Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли... С. 131-32.
- Hodgson G. The Return of Institutional Economics//The Handbook of Economic Sociology/N. Smelser, R. Swedberg (Eds.). Princeton: Princeton University Press, 1994. Р. 58-76.
- Саймон Г. А. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении//Вехи экономической мысли. Теория фирмы: В 2 т. Т. 2/Под ред. В. М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 2000. С. 54-72.
- Радаев В. Новый институциональный подход и деформализация правил в российской экономике//Экономическая социология: Новые подходы к институциональному и сетевому анализу/Сост. и общ. ред. В. Радаев. М.: РОС-СПЭН, 2002. С. 158.
- Нестеренко А. Современное состояние и основные проблемы институционально-эволюционной теории//Вопросы экономики. 1997. № 3. С. 48-49.
- Tylecote A. Cultured Differences Affecting Technological Innovation in Western Europe//European Journal of Work and Organizational Psychology. 1995. Vol. 1. № 5. Р. 137-147.
- Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли... С. 438.
- Осадчая И. М.Современное кейнсианство. М.: Мысль, 1971. С. 44-45.
- Зарубина Н. Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития: М. Вебер и современные теории модернизации. СПб.: РХГИ, 1998. С. 3.
- Евстигнеева Л., Евстигнеев Р.Второе дыхание теории конвергенции//Вопросы экономики. 1999. № 4. С. 44.
- Мизес Л. Либерализм в классической традиции: Пер. с англ. М.: ООО «Социум», 2001. С. 23-59.
- Фридмен М. Количественная теория денег: [Электронный ресурс]. Электрон. кн. Режим доступа: http://e2000.kyiv.org/biblioteka, свободный. Загл. с экрана.
- Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира». М.: Прогресс, 1972. 123 с.
- Tennant D., Kirton C. The Impact of Foreign Direct Investment, Financial Crisis and Organizational Culture On Managers Views as to the Finance-Growth Nexus//Journal of Economic Issues. 2007. Vol. XLI. № 3. P. 625-660.
- Зарубина Н. Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития. С. 5.
- Зарубина Н. Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития... С. 127.
- Дзарасов Р. С. Инвестиции и рост в современной России//Глобализация и крупные полупериферийные страны: Научные доклады. Вып. 1. М.: Международные отношения, 2003. С. 278.