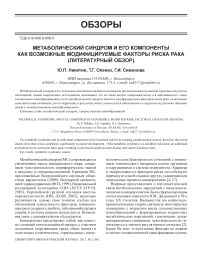Метаболический синдром и его компоненты как возможные модифицируемые факторы риска рака (литературный обзор)
Автор: Никитин Ю.П., Опенко Т.Г., Симонова Г.И.
Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj
Рубрика: Обзоры
Статья в выпуске: 2 (50), 2012 года.
Бесплатный доступ
Метаболический синдром и его отдельные компоненты являются основными предпосылками к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, однако современные исследования показывают, что он также вносит измеримый вклад и в заболеваемость злока- чественными новообразованиями. Если метаболический синдром является модифицируемым фактором риска рака, то возникает дополнительная мотивация для его коррекции, в результате может уменьшиться заболеваемость сердечно-сосудистыми заболева- ниями и злокачественными новообразованиями.
Метаболический синдром, злокачественные новообразования
Короткий адрес: https://sciup.org/14056208
IDR: 14056208
Текст обзорной статьи Метаболический синдром и его компоненты как возможные модифицируемые факторы риска рака (литературный обзор)
Метаболический синдром (МС) сопровождается увеличением массы висцерального жира, снижением чувствительности периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемией. Критерии МС, предложенные Всероссийским научным обществом кардиологов (2009), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ, 1999), Национальной ассоциацией холестерина США (NCEP ATP III, 2005), Европейской группой изучения инсули-норезистентности (ИР), (EGIR, 2002), несколько различаются, однако само понятие удобно для обозначения совокупности факторов, повышающих риск сахарного диабета, заболеваний сердца и смерти, и поэтому широко используется. Возможная связь с канцерогенезом обсуждается.
Канцерогенез представляет собой, как известно, сложный многостадийный процесс с участием экзогенных (окружающая среда, образ жизни) и эндогенных (генетических, гормональных, имму- нологических) факторов и их сочетаний, с изменением генетического материала клеток организма и нарушениями в системе иммунитета. Характер и экспрессивность факторов риска способствуют переходу из одной стадии в другую, ускорению или замедлению процесса канцерогенеза [4, 27].
Впервые представления о патогенетической связи метаболических нарушений с иммунологическими и канцерогенезом были сформулированы отечественным онкологом В.М. Дильманом в 70-е годы ХХ столетия. Выдвинутая им нейроэндо-кринологическая теория связывала многократное повышение с возрастом риска злокачественных новообразований с формированием возрастных метаболических нарушений, генетически детерминированным снижением чувствительности гипоталамуса к многим регуляторным сигналам [2]. Какие бы экзо- и эндогенные факторы ни лежали в основе злокачественной трансформации клетки, вероятность появления рака тем больше, чем выше интенсивность деления клеток, ниже активность клеточного иммунитета и слабее система репарации ДНК. В.М. Дильман предложил назвать это состояние канкрофилией. Синдром канкрофилии имеет отношение к развитию, по-видимому, рака любой локализации, в отличие от других факторов риска [3].
При МС последовательно развивается комплекс гормонально-метаболических нарушений, которые, возможно, играют определенную роль в развитии синдрома канкрофилии: инсулиноре-зистентность, гиперинсулинемия, ожирение, сахарный диабет. Снижение процессов анаболизма и репарации, нарушения в липидном обмене как внутриклеточном, так и в липид-транспортной системе отражаются на содержании холестерина, триглицеридов, липопротеидов высокой плотности. Происходят значительные гормональные сдвиги и снижение активности иммунных процессов, что приводит к формированию метаболической иммунодепрессии [2, 3].
Инсулинорезистентность и гиперинсулинемия лежат в основе патогенеза МС. Повышение уровня глюкозы, некоторых аминокислот, жирных кислот и ацетилхолина в крови стимулирует секрецию инсулина [1, 6, 19]. В низких концентрациях инсулин обладает преимущественно метаболическим действием, в более высоких – еще и пролиферативным. Метаболические эффекты приводят к экспрессии генов-активаторов синтеза ДНК, РНК и тканеспецифических белков. Пролиферативные эффекты реализуются через транспорт, обмен и депонирование аминокислот и других молекул, участвующих в процессах пролиферации и дифференцировки тканей. В быстро пролиферирующих тканях проявляется отчетливый митогенный эффект инсулина. Известно, что инсулин усиливает синтез ДНК и митотическую активность, в частности, в тканях молочной железы, в жировой ткани, в регенерирующей печени, в реберном хряще, в эпителии хрусталика глаза, в культурах фибробластов, почечного эпителия, усиливает рост клеточных структур матки и простаты [5]. В тканях, которые не пролиферируют (головной мозг, печень, скелетная мускулатура, сердечная мышца), этот эффект не проявляется. Инсулин стимулирует не только активность ДНК-полимеразы и синтез ДНК в S-фазе митотического цикла, но и ускоряет переход клеток из G1-фазы в S-фазу [6].
Сахарный диабет и повышенный уровень глюкозы в сыворотке крови ассоциированы с риском развития рака поджелудочной железы. Это показано, в частности, в исследованиях Health Professionals Follow-up Study на 46648 мужчинах в возрасте от 40 до 75 лет и Nurses’ Health Study, наблюдение с 1976 г. за 117 тыс. женщин от 30 до 55 лет. В этих же исследованиях найдено, что с гиперинсулинемией связано и более частое развитие колоректального рака среди лиц с избыточной массой тела и низкой физической активностью. У мужчин с повышенным потреблением в пищу высокомолекулярных углеводов относительный риск колоректального рака в 1,3 раза выше, а сахарозы или фруктозы – в 1,37 раза выше, чем при низком. Связь намного более сильная у мужчин с индексом массы тела (ИМТ) больше 25 кг/м2 [24].
Проспективное наблюдение Metabolic Syndrome and Cancer Project (Me-Can) (1974–2009 гг., 578700 пациентов с МС, средний возраст – 44 года) выявило связь между МС и риском колоректального рака (относительный риск 1,25 у мужчин и 1,1 у женщин [30]), раком мочевого пузыря [18], раком молочной железы [10] и возможную связь с раком поджелудочной железы [20]. Риск заболевания раком молочной железы у женщин с МС в возрасте моложе 50 лет составил 0,8, а у женщин старше 60 лет – 1,2 [20]. В том же исследовании найден относительный риск карциномы эндометрия у женщин с МС – 1,4 [11]. Риск любого рака при наличии МС увеличивался в 1,2 раза у мужчин и у женщин [12].
В National Health Insurance Corporation Study (Южная Корея) продемонстрировано, что ожирение и инсулинорезистентность являются факторами риска развития ЗНО, причем как первичных, так и повторных. Среди излеченных от рака (n=14181) у пациентов с ИМТ ≥25 кг/м2 риск повторного развития ЗНО толстой кишки в 3,45 раза, а мочеполовой системы – в 3,6 выше, чем у пациентов с меньшим ИМТ. У пациентов с уровнем глюкозы натощак ≥126 мг/дл риск ЗНО гепатобилиарной системы увеличен в 3,3 раза. Делается вывод, что избыточная масса тела, ожирение и инсулинорези-стентность являются факторами риска для развития последующих самостоятельных опухолей после лечения первой [29].
D. Michaud et al. [23] показали, что лица с ИМТ≥30 кг/м2 имеют риск развития рака поджелудочной железы в 1,7 выше, чем лица с ИМТ<23 кг/м2. Физическая активность снижает риск рака поджелудочной железы, особенно у людей, имеющих избыточную массу тела [17]. Японские авторы опубликовали работы о связи между увеличением окружности талии и содержанием адипонектина в крови с повышенным риском колоректального рака. Кроме абдоминального ожирения, факторами риска для развития колоректального рака признаны малоподвижный образ жизни, сахарный диабет, гипергликемия и гиперинсулинемия [25]. В метаанализе когортных исследований связи ожирения с раком поджелудочной железы показано, что при ИМТ≥30 риск рака поджелудочной железы увеличивается в 1,2–3 раза по сравнению с ИМТ≤25. Механизм связи ожирения и рака поджелудочной железы пока недостаточно изучен, однако установлено, что важную роль играют возникающая при ожирении гиперинсулинемия, повышение уровня инсулиноподобного фактора роста-1 и гипергликемия, провоцирующая оксидативный стресс, повреждение и пролиферацию клеток поджелудочной железы [9]. В крупном эпидемиологическом исследовании Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort у 69991 мужчины изучена динамика ИМТ в течение 1982–1992 гг. В 1982–2003 гг. у этих лиц было зарегистрировано 5252 случая рака простаты. Найдено, что избыточная масса тела и ожирение ассоциированы с увеличением риска высокодифференцированного рака простаты в 1,2, а рака с метастазами – в 1,5 раза [26, 28].
В проведенном в Швеции исследовании у 363992 мужчин (1971–1992 гг.) найдено повышение риска развития рака почки у лиц с высоким ИМТ и АГ. Мужчины средней по ИМТ части когорты имеют риск на 30–60% выше, а при самых высоких значениях ИМТ – в 2 раза выше, чем в нижнем квартиле ИМТ. Имеется прямая ассоциация между высоким уровнем АД и риском рака почки, который ещё возрастает с увеличением срока наблюдения [14].
Специальные исследования показали, что абдоминальный жир является органом, секретирующим гормоны, провоспалительные цитокины и адипоки-ны. Преимущественно абдоминальное отложение жира приводит к нарушению секреции адипокинов, высвобождению жирных кислот до уровня их ток- сичности и к развитию инсулинорезистентности, сахарного диабета и сосудистых нарушений [33]. Адипокины играют важную роль в повышении риска развития злокачественных новообразований. V. Bartella et al. [8] при изучении молекулярных механизмов активации экспрессии адипокина лептина инсулином показали, что лептин оказывает промоторное действие на клетки рака молочной железы, непосредственно способствует прогрессии раковых клеток через лептин-зависимые механизмы. Он активирует рецепторы эстрогенов, при этом оказывает влияние на эстроген-зависимые и эстроген-независимые типы клеток рака молочной железы [32].
Кроме лептина, другие адипокины – адипонек-тин и фактор роста гепатоцитов (HGF) – тоже участвуют в метаболических процессах, которые могут влиять на риск развития рака молочной железы. HGF стимулирует ангиогенез, способствует клеточной инвазии и усиливает рост клеточной массы опухоли. Адипонектин, наоборот, оказывает прямой ингибирующий эффект на опухолевые клетки, подавляя клеточную пролиферацию и усиливая апоптоз; кроме того, он блокирует связанный с ростом опухоли ангиогенез [7]. Косвенным подтверждением такой роли адипонектина в канцерогенезе являются данные о низкой концентрации адипо-нектина в крови у тучных людей с раком молочной железы, эндометрия, простаты и толстой кишки, по сравнению с практически здоровыми лицами. Адипонектин может влиять на риск развития рака путем увеличения инсулинорезистентности или путем непосредственного воздействия на опухолевые клетки. Некоторые опухолевые клетки экспрессируют рецепторы адипонектина и взаимодействуют с ним. Низкая концентрация адипонектина в сыворотке крови может рассматриваться как возможный фактор риска злокачественных новообразований у тучных. Изучение иммуногистохимическими методами экспрессии рецепторов адипонектина в нормальных клетках тканей желудочно-кишечного тракта и опухолевых клетках при колоректальном раке показало, что в раковых клетках уровень экспрессии рецепторов AdipoR1 составляет 95 % и AdipoR2 – 88 %, в нормальных тканях – 8 % и 0 % соответственно [34].
Исследования D.B. Boyd [13] показали, что инсулин и инсулиноподобный фактор роста IGF-1 ускоряют деление клеток опухоли. Автор сделал вывод о том, что МС, сопровождающийся про-воспалительными изменениями и нарушениями в системе цитокинов, способствует опухолевой прогрессии при раке толстой кишки, простаты, поджелудочной и молочной желез.
Существуют доказательства связи между концентрацией некоторых гормонов и факторов роста в плазме или сыворотке крови с риском развития рака молочной железы, его стадией и прогнозом. Высокий уровень эстрогенов в плазме крови сопряжен с повышенным риском развития рака в постменопаузе [31]. Положительная корреляция между уровнем инсулина после приема пищи и риском рака молочной железы и его прогнозом отражена также в работах D.A. Lawlor et al. [22].
В кросс-секционном исследовании Norwegian Energy Balance and Breast Cancer Aspect study (EBBA) у 206 практически здоровых женщин 25–35 лет с низкой физической активностью и метаболическим синдромом найден более высокий уровень 17β-эстрадиола и повышенный риск рака молочной железы [15]. Низкий уровень холестерина липопротеидов высокой плотности оказался связан с высоким уровнем эстрогенов, что позволяет рассматривать этот показатель как вероятный биомаркер риска рака молочной железы, особенно у тучных. Женщины с ИМТ≥23,6 кг/м2 и низким уровнем холестерина липопротеидов высокой плотности в крови имеют более высокий уровень эстрадиола в слюне, чем женщины с меньшими значениями ИМТ. Уровень холестерина липопротеидов высокой плотности обратно пропорционален уровню лептина, инсулина и дегидроандростендиона сульфата в сыворотке крови, а ИМТ является сильным предиктором уровня эстрадиола [16]. В постменопаузальном периоде наибольший вклад в риск рака молочной железы и его прогрессию вносят эстрон и эстрадиол, в избыточном количестве образующиеся в жировой ткани при ожирении [21].
Заключение
В настоящее время нет сомнений в том, что метаболический синдром и его компоненты являются основными предпосылками к развитию сердечнососудистых заболеваний. Наряду с этим имеется немало сообщений о наличии связи между метаболическим синдромом, его компонентами и раком. Показано, что метаболический синдром вносит заметный вклад в заболеваемость злокачественными новообразованиями разных локализаций, особенно раком молочной железы и колоректальным раком. Между развитием новообразований и метаболическими нарушениями есть определенные патогенетические связи. Канцерогенез является длительным многостадийным процессом, происходящим на фоне возрастных изменений в репродуктивной, адаптационной и метаболической системах, которые играют ключевую роль в развитии иммунодепрессии и формировании условий для опухолевого роста. Метаболический синдром сопровождается комплексом гормонально-метаболических нарушений, которые благоприятствуют развитию ЗНО. Популяционные исследования подтвердили, что риск развития злокачественных опухолей различных локализаций выше среди лиц, имеющих некоторые метаболические нарушения, входящие в кластер МС. Учитывая рост распространенности лиц с ожирением, сахарным диабетом, АГ, следует ожидать и увеличения заболеваемости и смертности от рака. Однако этот прирост может быть не очевиден на фоне улучшения профилактики рака, его ранней диагностики и более эффективного лечения.
Составляющие МС метаболические нарушения могут быть в разной степени корректированы. Однако идея коррекции МС с точки зрения профилактики заболеваний сердца, являющаяся очень популярной сама по себе, тем не менее не приводит к радикальным изменениям образа жизни отдельных индивидуумов, поскольку МС до развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы не снижает качества жизни. Поэтому взгляд на МС и его компоненты как на дополнительные модифицируемые факторы риска рака может дать определенный практический результат. Улучшение метаболических параметров может стать составляющей первичной профилактики рака. С этой точки зрения идея коррекции МС и его компонентов становится более привлекательной, появляется дополнительная мотивация для приложения больших усилий в борьбе с ним. Практический результат может быть представлен как в виде уменьшения заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и злокачественными новообразованиями, так и снижением экономического бремени общества на их лечение и реабилитацию, что позволит направить освободившиеся ресурсы на другие цели.
Таким образом, можно обоснованно предполагать, что изучение патогенетических связей между МС, его отдельными компонентами и ЗНО поможет в поиске способов эффективной профилактики рака.