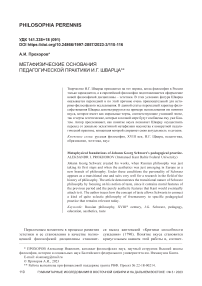Метафизические основания педагогической практики И.Г. Шварца
Автор: Прохоров А.И.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 3 (65), 2023 года.
Бесплатный доступ
Творчество И.Г. Шварца приходится на тот период, когда философия в России только зарождается, а в европейской философии подготавливается оформление новой философской дисциплины - эстетики. В этих условиях фигура Шварца оказывается переходной и по этой причине очень привлекательной для историко-философского исследования. В данной статье переходный характер философствования Шварца демонстрируется на примере использования им понятия вкуса, которое имеет как моральные черты, соответствующие уходящей эпохе, так и черты эстетические, которые в полной мере будут сообщены ему уже Кантом. Автор прослеживает, как понятие вкуса позволяет Шварцу осуществить переход от довольно эклектичной метафизики масонства к конкретной педагогической практике, концепция которой сохраняет свою актуальность и сегодня.
Русская философия, xviii век, и.г. щварц, педагогика, образование, эстетика, вкус
Короткий адрес: https://sciup.org/170200565
IDR: 170200565 | УДК: 141.338+18 | DOI: 10.24866/1997-2857/2023-3/110-116
Текст научной статьи Метафизические основания педагогической практики И.Г. Шварца
Переломным моментом в процессе развития эстетики и ее становления в качестве полноценной философской дисциплины становит- ся выход кантовской «Критики способности суждения» (1790). Понятие вкуса становится краеугольным камнем этой работы и, соответ- ственно, подвергается детальной философской проработке. Как показывает Х.-Г. Гадамер, до этого момента понятие вкуса уже имело свою собственную длительную историю, но, что принципиально, обладало характером скорее моральным, нежели эстетическим [3, с. 77]. Тем интереснее с историко-философской точки зрения рассмотреть случай, когда понятие вкуса еще сохраняло в себе моральные черты, но уже включало и эстетический аспект, будучи способным благодаря такому переходному характеру в значительной степени определять своеобразие той общей философско-мировоззренческой системы, в состав которой оно включено на правах одного из основополагающих элементов. Весьма удачный пример такого рода обнаруживается в истории русской философии на начальном этапе ее становления.
В 1776 г. в Россию приезжает Иоганн Георг Шварц1 (1751–1784). Со временем он становится профессором философии Московского университета (с 1780 г.), но начинает свою карьеру в России как преподаватель иностранного язы-ка2. Это занятие он не оставляет и, уже будучи профессором, организует так называемую «Переводческую семинарию», которая была учреждена им в 1782 г. при активной поддержке Н.И. Новикова [14, с. 587–588]3. После смерти Шварца семинария продолжала работать до 1786 г., когда по приказу Екатерины II начался процесс против Новикова и других московских масонов, а все связанные с ними учреждения были закрыты [6, с. 259–263].
Единственной работой, которая была опубликована при жизни Шварца, стала первая часть книги «Начертания первых оснований немецкого слога для употребления в публичных лекциях при Императорском Московском университете» (1780), представляющая собой компилятивную учебно-методическую программу преподавания немецкого языка4. Всего Шварц намеревался издать три части «Начертаний», каждая из которых должна была соответствовать определенной стадии изучения языка. Первая часть посвящена теории изучения немецкого слога. Во второй планировалось детально описать практические аспекты подготовки переводчиков. И, наконец, в третьей речь должна была пойти «о нужных к образованию вкуса книгах» [14, с. 579].
Вторая и третья части «Начертаний» так и не появились. Однако последующая деятельность Шварца, особенно чтение им в 1782–1783 гг. специального курса «эстетико-критических лекций о знаменитейших немецких поэтах и прозаиках» [14, с. 581], указывает на то, что его педагогический подход остался в русле намеченного плана.
Ознакомление с программой обучения и ее вводными положениями показывает, сколь существенное место Шварц отводит вкусу. Очевидно, что развитие художественного вкуса способствует совершенствованию характера и стимулирует развитие общей эрудиции, что в сумме, разумеется, должно способствовать развитию будущего переводчика. Однако, по Шварцу, развитие вкуса – не просто дополнительный элемент в образовательном процессе, который не стоило бы упускать из виду. Одно только формальное намерение специально развивать вкус учащихся на завершающей стадии образовательного процесса явно указывает на то, что Шварц имел некие особые воззрения и упования на вкус как свойство личности, претендующей на высокий профессионализм в области перевода5.
Разумеется, образовательная программа формируется на основании личного педагогического опыта профессора и его теоретических познаний в области педагогики. Шварц не составляет здесь исключения. В своей работе он активно задействует труды вполне актуальных для своего времени авторов, таких как Плюш, Рамлер, Батте, Готшед, Гейнац [14, с. 578–580]. Он уже обладает некоторым практическим опытом, более того, как иностранец, он сам находится в ситуации, когда необходимо интенсивно совершенствовать владение иностранным языком, поэтому, обучая своих студентов искусству перевода с немецкого на русский язык, он прекрасно понимает, что качество перевода за- висит не только от знания грамматики, но также от особой формы накопленного опыта, которая позволяет правильно оценивать те характеристики текста, которые нельзя исчерпывающе объяснить, обращаясь только к формальным описаниям, содержащимся в словарях и грамматических руководствах.
Но первый вопрос, позволяющий перенести рассмотрение педагогических практик Шварца в область философии, состоит в том, насколько такое понимание отрефлексировано и на каких основоположениях оно зиждется. Второй вопрос должен звучать следующим образом: как конкретные философские установки влияют на итоговый выбор и обоснование критериев, определяющих хороший вкус?
В 1779 г. при вступлении в должность профессора немецкого языка Шварц произносит «Речь о способах учения языков» [18], которая при публикации «Начертаний немецкого слога» будет включена туда в качестве введения. Согласно этой речи, чтобы студенты не изучали язык «подобно попугаям», учебный процесс должен быть дополнен двумя элементами – логикой («умословие») и метафизикой («душе-словие») [18, с. 94]. Далее, в «Начертаниях», роль этих элементов разъяснена подробнее. Согласно Шварцу, «…основания немецкого слога, равно как и во всех других языках, суть троякие. Мы почерпаем оные из грамматики, риторики и философии» [16, с. 3]. И далее, кратко изложив свое понимание роли грамматики и риторики, он обращается к философии: «Философия наконец подает нам средства, как порядком, так и точно определенными мыслями, слогу придать силу и убедительную основательность. Ибо логика (умословие) учит нас мыслить, исследовать, заключать и убеждать. Психология (душесловие) показывает нам свойство человеческих чувствований, а нравоучение доставляет нам сведение о различных человека отношениях» [16, с. 3–5]. Таким образом, упомянутые в «Речи» умословие и ду-шесловие входят совместно с нравоучением в состав философии.
Сопоставление двух представленных фрагментов (из «Речи» и «Начертаний») показывает, что в первом случае Шварц расшифровывает понятие «душесловие» как метафизику, а во втором – уже как психологию. Это не ошибка и отнюдь не случайность. Чтобы показать, что это так, необходимо обратиться к тому, как Шварц понимал человеческую природу.
В 1782 г. в ежемесячном новиковском издании «Вечерняя заря» был опубликован текст «Философическое рассуждение о Троице в человеке…» [12]. Автор указан не был. П.Н. Милюковым была выдвинута гипотеза, согласно которой эта статья и еще ряд последовавших за ней текстов не только принадлежат руке Шварца, но даже образуют единый философский трактат [7, с. 360]. Гипотезу о том, что «Рассуждение» было написано Шварцем, также выдвигает в 1914 г. В.Н. Тукалевский [11, с. 210]. Впоследствии эти предположения были опровергнуты. В частности, было установлено, что напечатанный в «Вечерней заре» текст «Рассуждения» – это выборочный перевод сочинения, автором которого был эрфуртский врач Иоганн-Николаус Вейссмантель (1735/36–1790) [10, с. 170]. Несмотря на опровержение, тексты, которые остались после Шварца и сейчас опубликованы, позволяют сделать вывод, что он полностью разделял концепцию Вейссмантеля и активно использовал ее в качестве элемента своего собственного философствования. Именно это делало гипотезы Милюкова и Тукалев-ского весьма правдоподобными.
В своем лекционном курсе «О трех познаниях» Шварц не только солидарен с Вейссманте-лем в отношении троичного устройства человеческой сущности, но он также практически дословно перенимает у него учение о человеке как уникальном промежуточном существе между двумя мирами – материальным и духовным [17, с. 4–9]. Два эти положения (троичная структура и промежуточный статус) во многом определяют те философские построения, которые Шварц предлагал слушателям своих лекций, что отчасти делает обоснованными обвинения в несамостоятельности и компилятивности [4, с. 374; 13, с. 120]. Однако в своих рассуждениях Шварц идет дальше. По Вейссмантелю, Бог сотворил человека по образу и подобию Своему, но тело, душа и дух сосуществуют в неразрывном единстве, точно так же, как лица Троицы. Следовательно, образ и подобие имеют отношение к каждой части сущности, а не к какой-то одной, например, духу [12, с. 295–296]. Вейс-смантель далек от попыток самостоятельного распределения, какая часть человеческой сущности какому лицу Троицы соответствует. И тем более он не задается вопросом о функциональном назначении этих связей. Но для масонского мистицизма, ярким представителем которого был Шварц, характерно стремление устанавли- вать многочисленные неочевидные связи всего со всем, демонстрируя магическое единство микрокосма и макрокосма (что соответствует базовому герметическому принципу «что наверху, то и внизу»). Под магизмом в данном случае понимается практическое применение тех знаний о таинственных аналогиях разных сфер бытия, которые были получены в результате индивидуального мистического опыта или были переданы в ходе осуществления соответствующих ритуальных практик масонов и розенкрейцеров. Следует при этом отметить, что в публичных лекциях Шварц проявляет благоразумную осторожность и не пропагандирует идеи масонства открыто, преподнося только их отдельные фрагменты и стараясь вывести их непосредственно из общедоступного, вполне легитимного наследия философской мысли.
Свои воззрения на соответствие лиц Троицы и частей сущности человека Шварц подробно разъясняет, в частности, в лекции, прочитанной им 17 сентября 1782 г. Мозг и в целом верхнюю часть тела, в особенности голову, где заключен ум, следует уподобить Духу, «просвещающему человека». Сердце и в целом левую сторону человеческого тела, «где обитает совесть», можно уподобить Сыну, или Спасителю. Правую сторону тела, центр которой – «утроба, или печенка», правильно будет уподобить Отцу, «яки источнику жизни и бытия». Относительно последней части Шварц делает замечание, что она «имеет в себе вкус, или волю» [17, с. 11].
Подобие Троице достигается только в том случае, когда три части человека действительно уподоблены ей, т.е. сосуществуют в благодетельном гармоническом соподчинении. Дальнейшие разъяснения того, как искажается сущность человека и его характер в случае нарушения гармонии и возникающего на ее основе подобия Троице, – это именно то, что демонстрирует практикуемое Шварцем слияние психологии и метафизики, которое он переносит в свою педагогическую теорию, где лицам Троицы должны соответствовать душесловие (Сын), умословие (Дух) и эстетика (Отец).
В этой же лекции Шварц расшифровывает свое понимание эстетического вкуса: «Чувство красоты или вкуса, что единственно называется человеком естественным, который стремится к красивому по виду, избирает приятное, ощущает жизнь, нужды, желания» [17, с. 11]. Понимание смысла предлагаемой цитаты затруднено ее неправильным синтаксическим построением. Искажение смысла могло произойти в ходе восстановления текста при подготовке публикации, т.к. исходный текст написан «скорописью XIX века» [8, с. 28]. Кроме того, сам исходный текст представляет собой выполненный сподвижником Шварца С.И. Гамалеей перевод подготовительных материалов к лекциям, которые профессор вел на немецком языке [2, с. 490]. При переводе также могла вкрасться неточность. Однако сопоставление цитаты с определениями двух других «чувств», совести и разума, представленными в той же лекции, позволяет с достаточной точностью реконструировать ту мысль, которую Шварц вкладывал в свои слова. Его определение следовало бы передать следующим образом: «Только чувство красоты или вкуса является природным [в отличие от совести и разума, принадлежащих духовному измерению человеческой сущности] – именно оно позволяет стремится к красивому по виду, избирать приятное, ощущать жизнь, нужды, желания».
Теперь видно, что Шварц не случайно сближает вкус и волю, помещая их в «печенку» и приводя в соответствие с ипостасью Отца. Данное им определение показывает, что для человека, наделенного вкусом, оказывается совершенно естественным применять свою волю так, чтобы его влечения устремлялись к тому, что соответствует воле и замыслу Творца. Поэтому в одной из своих записок Шварц говорит: «Вкус есть правитель нашей воли» [19, с. 90].
Когда ум, совесть и вкус работают в синергии, каждый из элементов человеческой троичности усиливает другие два. Развитие вкуса позволяет лучше понимать не только устройство материального мира, но и всего доступного человеку феноменального универсума, т.е. распространяется и на язык, который, согласно Шварцу, изначально дан человеку, чтобы выражать свои безграничные потребности, связанные с тварным миром, соединяющим посредством человека материальное и духовное измерения [9]. Это вполне вписывается в ту космологию, которой придерживается Шварц. Он разделяет дуалистическое мировоззрение, согласно которому тварное бытие состоит из двух начал – светлого и темного. Свет выражает все чистое и благое, порядок, разум и дух. Темное начало – все страдательное и непроницаемое, хаос и нестройность [17, с. 5–14]. Всякий материальный объект в такой космологии представляет собой комбинацию этих двух ос- новополагающих начал. Развитие вкуса под руководством разума и совести позволяет иначе относиться к материи – чувствовать в ней светлое начало и устремляться к нему. Встречный свет разума размыкает темный компонент, воспринимая его не как субстанциальное начало, что характерно для наивного восприятия материи, но в качестве естественной производной изначального света – как его недостаток или отсутствие.
Основной принцип соответствия микрокосма и макрокосма сохраняет у Шварца свое двустороннее действие. Свет, входящий в состав внешнего тварного мира, постигается при помощи внутреннего света разума. И наоборот: светлый компонент материи, воздействуя на человека, помогает ему раскрыть в себе и взрастить внутренний свет. Шварц называет это «Внешним откровением» [17, с. 33]. Сходный порядок действителен для вкуса. Обладание вкусом помогает постигать совершенство творений, устремляясь к лучшим из них. И наоборот: опыт взаимодействия с объектами высокой степени совершенства (в частности, с предметами искусства) позволяет воспитывать вкус и затем переносить его в другие области опыта.
Если возвратиться к тому, как Шварц представляет развитие истории человеческого общества, то становится вполне очевидно, что значимые качественные сдвиги, связанные с важными открытиями или обретением сокровенных знаний, становятся возможны только тогда, когда человечеством реализуется доступное ему на индивидуальном уровне уподобление Троице, т.е. когда разум, совесть и вкус действуют как единая сила. Истолкованная в таком ключе историческая реальность становится в руках Шварца веским дополнением к метафизической аргументации, направленной на обоснование его педагогического метода. Кроме того, исторический опыт выступает в качестве основного свидетельства, что развитие личностных способностей есть дело трудоемкое, требует времени и может быть ограждено от многих препятствующих ему случайностей только опытным педагогом, соединяющим в себе навыки философа, эстета и моралиста.
Говоря о вкусе применительно к языку, Шварц отмечает: «Непринужденность дает слогу вкус, по которому хорошие и избранные мысли выражаются чистыми, изрядными и учтивыми словами; но сей вкус не состоит в глубокомысленном и продолжительном чтении, в рассказывании невероятных вещей и вмешивании иностранных слов, но в разумной и острой живости в мыслях, изречениях и слоге, сходствующей во всех частях с благопристойностью» [16, с. 247]. В другом месте он обещает, что обладание вкусом позволит учащемуся «не внести излишнего и не принадлежащего к вещи, и, наконец, изобразить свое намерение кратко и ясно» [18, с. 96].
Вне зависимости от личных вкусовых и стилистических предпочтений Шварца, приводимые им пояснения полностью вписываются в его общую метафизическую программу. Текст сам по себе есть некая косная материя, и его предназначение – быть хранилищем и передатчиком мысли, которая, будучи светом разума, способна соединять автора и читателя. Следовательно, задача писателя вообще и переводчика в частности – сделать все от него зависящее, чтобы материя слова не мешала распространению света разума, но лишь обрамляла его. Разумеется, это вопрос хорошей выучки и ощущения материи языка на уровне инстинкта, т.е., по Шварцу, на уровне «утробы», отвечающей за хороший вкус. В качестве примера Шварц приводит религиозные тексты, которые «писаны духом». Свет разума в таких текстах присутствует в наибольшей степени, а материя слова – наиболее утонченная. Это налагает наибольшую ответственность на переводчика, который, чтобы успешно справиться со своей задачей, не только должен обладать соответствующими знаниями, но обязан путем аскетической подготовки преобразовать себя и уподобиться авторам таких текстов [15, с. 66].
Подводя итоги, следует указать на двойственный вклад Шварца в дело формирования российской культуры. С одной стороны, как педагог (и как первый преподаватель педагогики в России [6, с. 128]), он показывает, что всякий учащийся, претендующий на получение качественного образования, должен не только обрести базовые профессиональные навыки. Помимо этого, если он надеется на достижение высокого уровня совершенства в своем деле, он должен непременно получить духовно-нравственное воспитание, делающее его гармонично развитой личностью. Справедливость этого понимания имеет множество подтверждений, как в истории, так и в современности. Попытки экономии времени и средств на профессиональную подготовку учащихся неизменно оборачиваются глубокими кризисными явлениями в культуре, обществе и государстве. С другой стороны, стремление Шварца провести линии последовательной аргументации от своих метафизических убеждений вплоть до конкретного применения в педагогической практике позволяет ему подготовить почву для развивающегося впоследствии систематического философского мышления, для которого характерно построение единого самозамкнутого универсума мысли вокруг некоторого набора центральных идей. Именно это позволяет исследователям истории русской философии говорить о влиянии масонства екатерининского периода, главным концептуальным выразителем которого был Шварц, на последующее развитие славянофильства и русского шеллингианства [13, с. 120]. Эти же причины побудили Н.А. Бердяева назвать Шварца «первым в России философствующим человеком» [1, с. 21]. Все это, даже учитывая необходимую осторожность при обращении к теориям масонов и розенкрейцеров, заставляет возвращаться к изучению философского наследия Шварца и его вклада в развитие русской мысли.
Список литературы Метафизические основания педагогической практики И.Г. Шварца
- Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. Париж: YMCA-Press, 1971.
- Вернадский Г.В. Русское масонство в царствование Екатерины II. СПб.: Изд-во им. Н.И. Новикова, 1999.
- Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988.
- Кондаков Ю.Е. Орден золотого и розового креста в России. Теоретический градус соломоновых наук. СПб.: МП Астерион, 2012.
- Кривко Т.М. «Начертание первых оснований немецкого слога» И.Г. Шварца и «Сокращенный курс российского слога» В.С. Подши-валова // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Филология». 2015. № 1. С. 317-323.
- Лонгинов М.Н. Новиков и московские мартинисты. М.: Типография Грачева и Ко, 1867.
- Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 3. Национализм и общественное мнение. Вып. 2. СПб.: Типография И.П. Скороходова, 1903.
- Отчет Императорской публичной библиотеки за 1874 г. СПб.: Типография Второго Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1875.
- Прохоров А.И. Философия языка И.Г. Шварца: сакрализация исторической памяти // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2022. Т. 23. № 4. С. 130-139.
- Симанков В.И. Из разысканий о журнале «Вечерняя заря» (1782) // XVIII век: сборник статей и материалов. Т. 26. СПб.: Наука, 2011. С. 169-186.
- Тукалевский В.Н. Н.И. Новиков и И.Г. Шварц // Масонство в его прошлом и настоящем. Т. 1. М.: Задруги, 1914. С. 175-226.
- Философическое рассуждение о Троице в человеке, или опыт доказательства, почерпнутого из разума и Откровения, что человек состоит 1) из тела 2) души и 3) духа // Вечерняя Заря. 1782. Апрель. С. 265-309.
- Флоровский Г. Пути русского богословия. Минск: Изд-во Белорусского Экзархата, 2006.
- Шварц // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета. Ч. II. М.: Университетская типография, 1855. С. 574-599.
- Шварц И.Г. Беседы о возрождении и молитве // Шварц И.Г. Беседы о возрождении и молитве. Записки. Речи. Материалы для биографии. Донецк: Вебер, 2010. С. 5-76.
- Шварц И.Г. Начертание первых оснований немецкого слога для употребления в публичных лекциях при Императорском Московском университете. Ч. I. М.: Университетская типография, 1780.
- Шварц И.Г. О трех познаниях: любопытном, приятном и полезном // Шварц И.Г. Лекции. Донецк: Вебер, 2008. С. 3-54.
- Шварц И.Г. Речь о способах учения языков // Шварц И.Г. Беседы о возрождении и молитве. Записки. Речи. Материалы для биографии. Донецк: Вебер, 2010. С. 92-96.
- Шварц И.Г. Экстракты // Шварц И.Г. Беседы о возрождении и молитве. Записки. Речи. Материалы для биографии. Донецк: Вебер, 2010. С. 77-91.