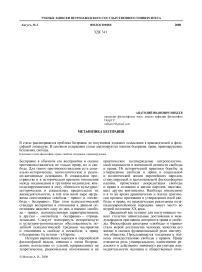Метафизика бесправия
Автор: Михеев Анатолий Иванович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (93), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема бесправия, не получившая должного осмысления в правоведческой и философской литературе. В основном содержании статьи анализируются понятия бесправия, права, правонарушения, беззакония, свободы.
Философия, право, свобода, бесправие, правонарушение
Короткий адрес: https://sciup.org/14749426
IDR: 14749426 | УДК: 34:1
Текст научной статьи Метафизика бесправия
Бесправие в обычном его восприятии и оценке противопоставляется не только праву, но и свободе. Для такого противопоставления есть социально-исторические, психологические и реально-жизненные основания. В социальном пространстве и в историческом времени отношения между индивидами и группами индивидов, консолидирующимися в силу общности культурноисторических и социальных предпосылок их жизнедеятельности, в той или иной мере нагружены оппозициями «свобода - право» и «несвобода - бесправие». При этом психологический стандарт восприятия и отношения к данным оппозициям наделяет одну из них, а именно «свобода - право», положительными характеристиками, а другую – «несвобода - бесправие» – отрицательными. Следует подчеркнуть историческую и культурно-региональную обусловленность подобной психологической традиции восприятия и отношения к свободе и несвободе, к праву и бесправию. Ее истоки – в Европе.
История европейских народов и европейской философской мысли, начиная с эпохи Возрождения, неотделима от усилий, направленных на теоретическое, рациональное обоснование и на практическое подтверждение антропологической значимости и жизненной ценности свободы и права. Из исторической практики борьбы за утверждение свободы и права в социальной и политической жизни европейских народов, стимулируемой и вдохновляемой философскими идеями, проистекает аккредитация свободы и права в сознании и жизни народов, населяющих другие континенты. Наиболее интенсивно и в то же время драматически и подчас трагически процесс признания и утверждения идей свободы и права, их практическая реализация незападноевропейскими народами имеет место во второй половине ХХ века.
Двадцатый век оставил для наступившего нового столетия значительные достижения в международном признании авторитета права и свободы. Философские категории «свобода» и «право» стали мерой достоинства человека, качества его жизни и оценки функциональной роли институтов общества. Прослеживается тенденция к полному отождествлению свободы с правом. Праву отводится роль универсального, единственно реального и действенно значимого регулятора жизнедеятельности человека и общественных отно-
шений современности. В праве видится гарантия свободы человека. Свобода определяется правами человека. При этом подразумевается, что права человека в полной мере исчерпывают свободу самореализации личности и объемлют собою все возможные ее проявления.
Насколько безупречен в теоретическом и в практическом отношении взгляд на свободу человека исключительно с юридической точки зрения? Исчерпывается ли свобода правом?
Что касается теоретической обоснованности обозначенного видения свободы, то здесь можно ограничиться лишь упоминанием позиции И. Канта [1]. Мыслитель, оправданно назвавший себя Коперником в философии, отрицал наличие у человека каких-либо прав, данных ему от рождения и неотчуждаемых от него, кроме свободы. Это можно понимать так, что не права определяют свободу человека, напротив, от его свободы зависит реальная осуществимость его прав и реальный характер правоотношений в обществе. Не от века данные человеку права и не действующее положительное право являются источниками свободы. Они представляют следствия ее утверждения в мире. Свобода предшествует правам. Ее можно и должно мыслить саму по себе, как некое онтологическое призвание человека, как само себя осуществляющее присутствие личности, ее «Я» в мире.
Пути к осмыслению свободы человека могут быть разными. В частности, открываются определенные возможности для выявления характеристик свободы человека как «владельца» свободы, которая растрачивается или приобретается им в пространстве его жизни между правом и бесправием. Задаче такого выявления и посвящена данная статья.
Право существует в двух сферах. Одну из них составляют тексты разного характера, содержания, функционального предназначения и смысла. К таким текстам относятся политические декларации, работы по философии права и теоретические исследования в тех или иных разделах юридического знания.
Другая область, в которой право свидетельствует о себе, охватывает все то, что относится к фактической и действительной жизни человека в обществе. Право призвано быть регулятивным инструментом практических взаимодействий граждан. С правом должны сообразовываться и соответствовать ему поступки, поведение, действия каждого отдельно взятого человека. Отношения между людьми не могут полностью отменять или исключать их правовые предпосылки и условия. Попытки этой отмены оборачиваются трагедиями для жизни и судеб не только одного или немногих, но и целых народов. Реально-практическая область существования права, как и все практически значимое, имеет осязаемые преимущества перед текстами. Однако такое преимущество практического и инструментального значения права было бы невозмож- но без сформулированного права в текстуальном варианте его воплощения.
Важнейшее место в системе текстуального наличия права занимает вся совокупность принятых юридических законов, статей различных видов права: конституционного, уголовного, гражданского, семейного, административного и других. Содержание, язык текстуально воплощенного права не отличаются однородностью. Неоднородность содержания и языка текстов определяется целями и задачами, решению которых они обязаны своим существованием. Книги и статьи по философии права близки по проблематике работам по общей теории права. В них решается одна и та же задача выяснения природы и сущности права. Способы и пути ее решения, однако, в работах по философии и теории права не совпадают. Из этого вытекают расхождения между ними в понимании сущности и природы права, присущие им языковые особенности. Но различия между ними менее существенны, если их содержание и язык сравнивать с содержанием и языком статей уголовного или гражданского права. В то же время статьи Уголовного и Гражданского кодексов также свидетельствуют о наличии права разного содержания и назначения. Существование разноплановых и несовпадающих содержательных характеристик права в различных текстах свидетельствует о многомерности права. Разночтения права, имеющие место в его текстуальном пространстве, не отменяют его единства.
Реальность текстуально оформленного права не носит характера фактического осуществления в мире. Она не свидетельствует и не может свидетельствовать о себе непосредственным образом «вот в этом месте» и «вот в этом дне или часе» своего пребывания и действия. Право в текстах сохраняется в состоянии «готовности и ожидания» вывода его из рамок языка текстов. Оно предполагает иной язык - язык поступков и действий. Оно было бы бессмысленным, если бы оставалось замкнутым в границах текстуального пространства. Право необходимо для жизни человека. Текстуальное пространство занимает место в физическом порядке мироздания. Сущность же его не является физической. В юридических текстах фиксируются свойства не физических объектов, а мысленных предметов. Мысленные предметы не нагружены свойствами и не наделены энергиями физических тел. Им свойственно аккумулировать в себе знания, ценности, смыслы, правила, ориентирующие жизнедеятельность человека. Данные предметы занимают место, определенное мыслью и языком. Они не определяются пространственным местоположением и временем. Их существование, конечно, определенным образом соотносится с историческими условиями. Но не условия сами по себе дают им текстуальную определенность. Их источником, их «родительницей» является мысль. Поэтому мысленные предметы, объективирован- ные в языке текстов, обращены к сознанию и разуму человека. Человеку даны способности понять, оценить и принять смысл и значение права. Через реализации данных способностей в социальных отношениях и деятельности человека право приобретает жизненную силу. Смысл и значение права «в силу этой силы» перестают быть сокрытыми в языке текстов. Они становятся достоянием и достоинством жизненного мира человека. Право текстуальное, введенное в жизненный мир в соответствии со своим собственным смыслом и значением, продуктивно. Оно содействует удержанию жизненной стихии в границах свободы, определенной правом.
Право по существу своему есть «внешняя свобода, определенная законом» [2]. Оно может пониматься также как «внешняя свобода, предоставленная и ограниченная нормой» [3]. Свобода личности составляет «основу права» [4]. Однако свобода личности не исчерпывает всей сущности права. Право по своему назначению должно обеспечивать в исторически изменяющихся условиях общественной жизни «равновесие двух интересов: интереса личной свободы и интереса общего блага» [5].
Внешняя свобода, соответствующая праву, это всегда свобода определенных действий, поступков и поведения. Вместе с тем свобода по праву не допускает других, тоже определенных действий, поступков, поведения. Защита свободы, данной индивидам правом, есть одновременно защита общего блага. Внешняя свобода личности должна отвечать интересам общего блага защиты жизни каждого человека. «Юридический закон поддерживается принудительной властью. Если бы юридический закон не был бы принудительным, то внешняя свобода была бы лишена защиты – была бы жертвой случайных произволов сильнейших» [6].
Практическая жизнь и социальные взаимодействия индивидов тяготеют не только к внешней свободе, определенной в положительном праве, но и к независимости от этой свободы. Стремления индивидов быть в своих действиях нестесненными ограничениями, содержащимися в законах и нормах права, есть проявление метафизического смысла свободы человека. Действия, осуществляемые в абсолютной независимости от свободы, определенной в положительном праве, способны привести к утверждению абсолютного торжества зла на земле. Задача права и определенных им границ индивидуальной свободы состоит в том, чтобы лежащий во зле мир « до времени не превратился в ад» [7].
Бесправию в реальной жизни принадлежит не последняя роль. Оно может приобретать в ней значительное влияние. В определенных исторических условиях масштабы вторжения бесправия в жизнь приобретают всеобъемлющий характер. Торжество бесправия в таких масштабах означает полное устранение из социального пространства жизни свободы, основанной на правовых нормах. Вытеснение из жизни свободы, гарантированной юридическими законами и нормами, отменяет границу между тем, что дозволено и не дозволено. Юридические запреты на определенные действия лишаются практического влияния на индивидуальную психологию и массовое сознание. Могущество и силу приобретает власть омертвляющих жизнь идеологических догм фанатической ненависти и насилия. Социальный контекст личностного существования превращается в арену произволов, соответствующих данным идеологическим догмам. Личностное инициирование коммуникативных взаимодействий отменяется. Поступки индивидов допускаются лишь в порядке их соответствия социальному контексту политического единства, не допускающего индивидуальных различий. Любые индивидуальные инициативы, не согласующиеся и вступающие в противоречие с социальным единством, подлежат осуждению, порицанию и пресечению. Социальный контекст функционирует как реализация монолитного единства индивидуальных воль, поведения, ценностей.
Всеобъемлющая принуждающая власть жизни за границами ее правовой регламентации являла себя в истории неоднократно. Наиболее близкое к современности ее восшествие в мир социального бытия относится к двадцатому веку. Подобная власть засвидетельствовала себя в тоталитарных государствах прошлого столетия. Одной из главных их особенностей было изгнание права из жизни и дискредитация ее правовых основ, которые в тоталитарных государствах сохранялись лишь на бумаге. Конституция, принятая и опубликованная в СССР, была адекватной двум основным идеям права – идеям свободы и справедливости. В действительности же она не обеспечивала защищенность индивидуальной жизни человека. Под ее прикрытием подвергались унижению, издевательству и насильственной смерти представители всех слоев населения. Индивидуальная жизнь приобрела гарантированность встречи с насильственным ее пресечением. Известное изречение «Нет человека и нет проблемы» символизирует торжество незащищенности и негарантированности человеческой жизни правом.
Реальная действительность, в которой отсутствуют механизмы обеспечения права человека на жизнь, есть воплощенное торжество бесправия. Торжество бесправия ничего общего не имеет ни с идеей свободы, ни с идеей справедливости. Бесправие словно насмехается над этими идеями. Оно утверждает себя как господство над правом, над его законами. Право находится в состоянии узника, на которое его обрекает бесправие. Оно сохраняет свое существование исключительно в пространстве текста. Ему отчасти отводится место в сознании тех, кто способен воспринимать тотальное бесправие как реальное воплощение социального абсурда. Торжество чумы бесправия в прошлом веке все же (или еще) не носило вселенского характера. Всеобъемлющее бесправие оставалось тогда замкнутым в границах государственно-территориальных образований. В социальных системах, не пораженных таким бесправием, право сохраняло свою жизненную силу и власть. Однако всеобъемлющее бесправие тяготеет к масштабам вселенского господства.
В тоталитарных государствах полностью отсутствовали реальные возможности для правоприменительной практики. Господствующие в них политические режимы являли собой царства тотального бесправия. Такого рода бесправию соответствует всепроникающее принудительное регулирование жизни человека и всех общественных институтов.
Для принудительного и всеобъемлющего способа государственного вмешательства в частную жизнь граждан любая самодеятельность личности становится опасной и вредной. Личная свобода воспринимается как преступление, требующее наказания. Индивиды в тоталитарном государстве являются гражданами по названию, но не по существу. Гражданин – это лицо, которому право предписывает определенные обязанности. Право вместе с тем не превращает его исключительно в субъекта обязанностей. Гражданин – это лицо, обладающее определенным кругом правомочий. В тоталитарном государстве «гражданин» становится исключительно субъектом обязанностей и объектом распоряжений. «Это не государство, в котором есть граждане, законы и правительство, это социально-гипнотическая машина » [8]. Общество и люди, управляемые такой машиной, вынуждены жить в состоянии перманентного страха. Источником его является не только и не столько бесконтрольная власть государства, сколько монополия политической партии, насаждающей свою идеологию. В обществе царит безжалостная диктатура идеологических и организационных партийных структур. Средствами осуществления тотального господства партийной идеологической машины становится вездесущий сыск и слежка, доносительство и насилие. При этом физическое насилие становится необходимым следствием отрицания права индивидов на внутреннюю свободу. Достоинства человека определяют партийная, классовая или национальная принадлежность, демонстрация идеологической лояльности и готовность подтвердить ее любыми способами и средствами. Тотальное бесправие есть не знающая пределов независимость государственно-политических институтов и жизни человека от права и гарантированной им свободы .
По логике вещей, тотальное бесправие, приобретая независимость от права, утверждая полнейшую несвободу в социальном пространстве жизни, само по себе становится автономным. Позволю себе в данном месте воспользоваться таящимся в русском слове «бесправие» сокровенным его смыслом. Данное слово без особых насилий над его языковой тканью позволяет преобразовать его одновременно в глагол и существительное. В таком случае бесправие есть там, где «бес правит». Если же выйти за рамки филологии и обратиться к традициям русской религиозно-православной культуры, то в ней признается, что бесы действительно могут управлять поведением и сознанием людей.
Обращает на себя внимание, что тексты, в которых тема бесправия обсуждается специально, являются исключительной или даже абсолютной редкостью. Встречаются отдельные экскурсы в проблематику бесправия. Они обозначены в текстах по философии политики. Особенно они свойственны авторам, работы которых как раз посвящены рассмотрению природы и генезиса тоталитарных режимов двадцатого века. Подобного рода экскурсы имеют место в работах «Истоки тоталитаризма» Х. Арендт [9], «Демократия и тоталитаризм» Р. Арона [10], «Открытое общество и его враги» К. Поппера [11], «Дорога к рабству» Ф. А. Хайека [12]. Бесправие как феномен, противостоящий правовым началам жизни, в исследованиях по философии права и по общей теории права не находит должного внимания. Работы по правоведению и философским вопросам права, в которых тема бесправия была бы самостоятельным предметом, в библиотечных каталогах не выделены в самостоятельную рубрику, вероятно, потому, что их нет.
Косвенным признанием существования проблемы бесправия в юридических текстах являются нормы различных видов положительного права. В кодексах указывается ответственность и наказание за правонарушения. Все, что определяется в правовых нормах как противоправное деяние, следует отнести к тому, что заслуживает быть сведенным к термину «бесправие».
Между феноменом бесправия и правонарушениями нет тождества. Правонарушения любого рода, характера и свойства остаются именно тем, что заслуживает обозначения соответствующим им термином. Нельзя назвать бесправием какой-либо единичный, частный акт нарушения права. Нельзя потому, что этого не позволяет русский язык. Правонарушения – это то, что относится к достоверной фактичности. Они всегда свидетельствуют о себе в неповторимой ситуации отрицания жизненной власти и силы права. Правонарушения не отрицают и не могут отрицать жизненного значения права. Главное жизненное значение права, присущая ему жизнеутверждающая миссия состоят в том, чтобы «организовать мирное и справедливое сожительство людей на земле» [13].
Единичное правонарушение подлежит юридической санкции. Ни одна норма или закон положительного права не предусматривает ответственности за бесправие. Бесправие несет в себе отрицание значения права. Санкций за отрицание значения права нет потому, что оно несводимо к наличным формам правоприменительной практики. В ней, по ее основному призванию и назначению, должна защищаться власть и сила юридического закона. Но если в правоприменительной практике не реализуется ее назначение, то, несмотря на это, значение права не отменяется и не упраздняется. Нельзя устранить из жизни право людей на мирное и справедливое существование и взаимодействие. Именно в этом отношении право сохраняет свое значение независимо от его практической эффективности в реальной правоприменительной практике.
Бесправию почти не отводится места в юридических текстах потому, что оно «растворяется» в подвижных и разнообразных правонарушениях. В их изменчивой и многообразной фактичности исчезает метафизическая смысловая энергия бесправия, его соблазны, призывы и повеления. Не физическая, не природная, а мета-физически-смысловая энергия бесправия проистекает из свободы человека. Бесправие вторгается в жизненный мир людей, придает его событиям катастрофический или трагический характер. В свободе дана человеку возможность следовать правовым ограничениям свободы и выходить за ее пределы, служить бесправию и испытывать его власть над собой.
Юридические нормативные и законодательные документы направлены именно на то, чтобы четко обозначить «болевые точки» социального бытия. Они нацеливают правоприменительную практику на работу в фиксированных точках случаев правонарушений. Однако бесправие не только воплощается в правонарушениях, свидетельствующих о нем.
Бесправие предшествует правонарушениям. Не оно вытекает из них, напротив, правонарушения есть следствия бесправия. Им задаются и санкционируются противоправные деяния. Они ведут к тому и свидетельствуют о том, что скрывается за ними. Бесправие направляет человека своими путями к правонарушениям. Оно укореняется в практической жизни через правонарушения и противоправные акты. Для того чтобы данные акты получили свое воплощение, уже должно существовать то, что их предполагает и из себя вводит в мир повседневности.
Бесправие не может быть полностью выражено единичными фактами противоправных деяний и не исчерпывается ими. Действительность социального мира открыта перспективам бесчисленных и неповторимых вариаций правонарушений. Бесправие представляет собой некий обобщенный или собирательный их образ, понятийно и терминологически выраженную в них сущность.
Правонарушения случаются. Бесправие не относится к разряду единичного, случающегося явления. Оно может, правда, случиться, но не как отдельно взятое явление. Ведь отдельно взятое явление, в котором присутствует бесправие, имеет неотторгаемое от него имя. Оно не обозначается термином «бесправие». В качестве отдельно взятого явления бесправие случается в особом порядке, когда оно снисходит в жизнь с высоты свойственной ему метафизической природы. Бесправие тогда объемлет собою всю принадлежащую и неисчерпаемую многообразность фактов той или иной социальной системы. Как некий всеобъемлющий мир социальной действительности оно продуцирует возможности и сопровождает реализацию самых жестоких форм поведения и действий людей. В случившейся фактичности бесправия достигается временная тождественность внешней дробности правонарушений с их нефактичным основанием. В этой временной тождественности бесправия себе самому вся наличность событий социальной системы пропитана бесправием. Если оно явило себя в виде наличной фактичности, то бесправие обязательно становится тотальным.
Тотальное бесправие способно показать и засвидетельствовать себя только в полнейшей чистоте свойственного ему разрушительного могущества. Оно устраняет из жизни право, а вместе с ним и противоправные деяния. Его фактичность исчерпывающе достаточна и потому не дает оснований для определения противоправности каких-либо действий. Тотальное бесправие вытесняет из жизни правонарушения. Это обусловливается тем, что единичным поведенческим актам людей оно предписывает необходимость соответствовать своей собственной действительности. Все действия и поступки индивидов, соответствующие бесправию, утвердившемуся в виде фактичности, не могут без насилия над языком называться противоправными. Они могут быть названы, в соответствии с формальным законом тождества, бесправными, но никак не противоправными.
Противоправные действия соотносятся не вообще с правом, а с нарушениями определенных правовых норм или законов. Они могут мыслиться и как противодействия в целом праву или идее права. Но в этом случае необходимо абстрагироваться от конкретных, единичных противоправных действий. Адекватным выражением подобного рода абстракции будет термин «беззаконие». Беззаконие заключается в том, что юридические нормы и законы «не работают». Они оказываются бессильными и неспособными защитить себя и утвердить свою власть над внешними действиями и социальным поведением индивидов или их консолидированных объединений и групп. Беззаконие и его распространение являются свидетельством отсутствия воли государственной власти к защите законов и норм положительного права. Беззаконие также указывает на неблагополучие всей правоохранительной системы, на наличии в ней не отвечающих ее сущности и назначению признаков. За всем этим скрывается и проявляет свою власть бесправие. Не беззаконие порождает бесправие. Оно является следствием бесправия.
Возникает вопрос о пристанище и «обители» бесправия. Ответ надо искать в душе, в психоло- гии и в сознании человека. Бесправие не порождает некая внешняя для человека сфера: общество, политическая власть, социальные институты и тому подобное. Бесправие укоренено в человеке, в его свободе. Бесправие есть феномен особого рода свободы человека, свободы к злу или свободы во зле. Бесправие следует мыслить в отрицательном моменте проявления свободы. Оно есть свобода «от» или независимость «от» свободы, вменяемой индивидам правом. Отрицательная свобода бесправия, укорененная в человеке, «выходит в свет», приобретает достоверность наличной фактичности, преобразуясь в противоправные действия, в бессилие законов и норм положительного права. Она есть утверждение свободы человека, освобождающего себя от свободы, данной в нормах права и ограничивающей его «свободные» притязания. Бесправие поэтому следует понимать именно как отрицание или независимость от свободы, соответствующей идее права и ее практическому нормированию положительным правом.
Тема и проблема свободы человека занимает одно из центральных мест в философии Нового времени, в классической немецкой философии. Она является одним из основных предметов размышлений философов, олицетворяющих наиболее влиятельные направления западноевропейской мысли двадцатого века.
В экзистенциальной философии понимание свободы на первый взгляд трудно согласуемо со свободой, заданной и определенной правом. Отметим самое общее видение смысла свободы в экзистенциализме Ж.-П. Сартра [14]. Свобода есть персональный выбор поступка и поведения, независимый от предпосланной ему какой-либо природы или сущности личности. Свобода воплощается в соответствующем ей выборе, то есть в таком, который лишен предваряющих его причин и условий. Поэтому свобода мыслится как отсутствие оснований, с которыми бы согласовывались решения личности. Для того чтобы личности быть свободной, ей необходимо понять и осознать, что выбор поступка и сам поступок зависят только от нее. Ответственность за них она не может и не должна перекладывать на какие-либо внешние условия, обстоятельства и причины. Свобода есть независимость личности от соображений выгоды и пользы, от соответствия традициям и общепринятым, массовым образцам поведения. Свобода – это риск, это шаг в пустоту, который позволяет личности заполнить эту пустоту своим присутствием, своим выбором своего поступка.
Свобода мыслится при этом только в личностном ее самоутверждении и самоосуществле-нии. Социальный контекст, мир социального пространства жизни ставятся в зависимость от поступка личности, определенного ее личностным разумом. Смысл личностного бытия видится в независимом, свободном от общества определении смыслового горизонта своей судьбы как свидетельства неповторимого личностного присутствия в мире.
Экзистенциальное видение свободы в личностном способе определения смыслового горизонта индивидуальной судьбы в каждом отдельно взятом поступке личности обладает неоспоримыми достоинствами. Такой подход к пониманию свободы вместе с тем встречается с вопросами о возможности личности быть абсолютно автономной в выборе своего поступка и вытекающей из него индивидуальной судьбы.
Строго и последовательно рассуждая, мы должны признать, что социальный контекст изначально присутствует в мире разума и индивидуальных самоопределений личности. Этим неотделимым от личности контекстом является язык. Жизненный мир человека, все существующие в нем различия и структурная упорядоченность изначально укоренены в языке. Язык сопровождает человека во всех его отношениях, намерениях и действиях. Именно через посредничество языка они приобретают определенность и для самого лица, их осуществляющего, и для других лиц. На мир, на себя и на других людей человек смотрит не столько физиологическим органом зрения, сколько языковой определенностью того, что он видит [15]. Каждый предмет, изменяющиеся ситуации событий и действий, которые привлекают его внимание, озвучены, выделены, определены и обозначены терминами естественного языка.
Определенности восприятий мира через «языковые очки» предписаны человеку «по ведомству его жизни в обществе». Изначально человек, думающий и сознающий, «благодаря уже бытовому языку, СОЗНАЕТ НЕ ОСОЗНАВАЯ» [16]. Иными словами, во всех предметах, с которыми человек взаимодействует, содержится то, что принадлежит ему как сознательному существу.
Язык может не осознаваться человеком в качестве особой реальности. Независимо от этого, язык существенно влияет на его жизненный мир и на его сознание. Собственно и любой, самый свободный личностный выбор осуществляется в сопровождении его языкового оформления. В этом смысле абсолютно независимые выбор и поступок имеют в себе социального соучастника. Социальный контекст в той или иной степени сопутствует или противостоит личностному присутствию в мире. Однако и в первом, и во втором случае отношения к лично стному присутствию в мире социальный контекст не может быть абсолютной «пустотой» для личностного самоопределяющегося выбора своего поступка или поведения.
Составным элементом социального контекста является правоприменительная практика с ее специфическим языком юридических норм и законов. Личностный выбор, совершенный в своей свободе, не обязательно вписывается в наиболее совершенную правоохранительную систему и практическое ее применение. Кроме того, такой выбор, осознанно осуществляемый с пониманием вытекающей из него юридической ответственности, может быть направлен против права. Это означает, что личностная свобода отрицает гарантированность свободы всех и каждого, предоставленную и обеспеченную положительным правом. Свободный выбор и свободный поступок не исключают возможности быть проявлением свободы зла. Нельзя не согласиться с В. В. Зеньковским в том, что «свобода – великий, но и страшный дар, без него не цветет, не раскрывается личность, но в свободе же источник всех трагедий, всех испытаний человека» [16, 35].
Корни и истоки бесправия, как и права, уходят в мир свободы человеческих побуждений, в возможности и условия их реализации в социально-культурном пространстве человеческого бытия. «Встречи» стремлений людей с внешними условиями (социальными, экономическими, политическими, нравственными, правовыми и бытовыми) их удовлетворения не могут быть полностью лимитированы этими условиями. Поэтому сколь бы совокупная власть внешних условий не подавляла и не ограничивала индивидуальные и автономные стремления людей, они все-таки сохраняются в тех или иных формах. И, напротив, даже самые благоприятные внешние условия, создающие широкий простор для проявлений индивидуальных и автономных притязаний, не устраняют зависимости и подчиненности человека условиям, которые для него оказываются предпочтительными.
Между людьми и совокупностью внешних условий их жизнедеятельности существуют отношения взаимозависимости и взаимообусловленности. Такие зависимости не отменяют и возможностей реального существования человеческих побуждений к поступкам, радикально не соответствующих внешним условиям. Определенно выраженное противостояние поступков и действий индивидов наличным условиям мо- жет быть направлено на преодоление существующего беззакония. Но оно же может быть подчиненным утверждению беззакония и отрицать власть закона, не считаться с законом и игнорировать его. Здесь следует видеть два противоположных отношения к юридическим предпосылкам жизни. Определение их по признаку, разделяющему их на свободные и несвободные, вряд ли следует признать корректным.
Альтернативные отношения к юридически нормированной свободе могут быть проявлениями индивидуальной свободы. Свобода при этом распадается на два ее вида: на свободу в рамках права и на свободу за его пределами. Свобода вне границ, определенных правом, является сомнительной независимостью от жизненного значения права. Оправданно видеть в подобной свободе не освобождение от ограничений, а напротив, попадание «Я» личности в принуждающую и рабскую зависимость. Свобода как источник бесправия, независимости от права не является подлинной свободой личности. Тем не менее лица, субъективно движимые стремлениями к независимости от права, воспринимают такие побуждения как проявления свободы своего «Я». Подобное восприятие свободы соответствует замкнутому миру психики и сознания личности. Они выражают ее стремление подняться или «взлететь в высь без широты кругозора» [18].
Неподлинная свобода есть зависимость нашего «Я» от побуждений и страстей. Она есть следствие неспособности личности управлять своими душевными состояниями. Свобода самоопределения личности в мире требует, «чтобы не все этим "я" было для себя же позволено» [19]. Подлинное самоопределение личности в мире невозможно без «самообуздания» стремлений к действиям, отрицающим право. Убеждение в том, что разум человека есть единственный источник «са-мообуздания», как полагает автор статьи, требует критического переосмысления.
Список литературы Метафизика бесправия
- Кант И. Критика практического разума. Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. М.: Чоро, 1994. 630 с.
- Чичерин Б. Н. Философия права. СПб.: Наука, 1998. С. 83.
- Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. СПб.: Юридический институт, 1988. С. 30.
- Соловьев В. С.Право и нравственность. Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2001. С. 18.
- Соловьев В. С.Право и нравственность. С. 18.
- Чичерин Б. Н. Философия права. С. 83.
- Соловьев В. С.Право и нравственность. С. 454.
- Чичерин Б. Н. Философия права. С. 95.
- Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996. 672 с.
- Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М.: Текст, 1993. 303 с.
- Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2 т. М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. 448 с.
- Хайек Ф. А. Дорога к рабству//Фридман и Хайек о свободе. Минск: Полифакт-референдум, 1990. 126 с.
- Ильин И. А. О сущности правосознания/Ильин И. А. Соч.: В 10 т. Т. 4. М.: Русская книга, 1994. С. 154.
- Сартр Ж.-П. Экзистенциализм -это гуманизм/Сартр Ж.-П. Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989. 396 с.
- Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М.: Прогресс, 1985. 344 с.
- Якобсон Р. В поисках сущности языка: [Электронный ресурс]. Режим доступа к ст.: http://elenakosilova.narod.ru/studia/sinn/jacobson.htm
- Зеньковский В. В. Проблема воспитания в свете христианской антропологии. М.: «Школа-Пресс», 1996. С. 35.
- Бинсвангер Л. Экстравагантность: [Электронный ресурс]. Режим доступа к ст.: http://elenakosilova.narod.ru/studia/verstiegenheit.htm
- Франк С. Л. Реальность и человек. СПб.: РХГИ, 1997. С. 309.