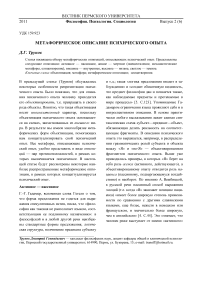Метафорическое описание психического опыта
Автор: Трунов Дмитрий Геннадьевич
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 2 (6), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена обзору метафорических оппозиций, описывающих психический опыт. Представлены следующие оппозиции: активное - пассивное, живое - мертвое (овеществление, механистические метафоры, олицетворение), внешнее - внутреннее, высокое - низкое, светлое - темное.
Объективация, метафора, метафорические оппозиции, олицетворение
Короткий адрес: https://sciup.org/147202772
IDR: 147202772 | УДК: 159.923
Текст научной статьи Метафорическое описание психического опыта
В предыдущей статье (Трунов) обсуждались некоторые особенности репрезентации психического опыта. Было показано, что для описания психического опыта человеку приходится его объективировать , т.е. превращать в своего рода объекты. Понятно, что такая объективация носит иносказательный характер, поскольку объективация психического опыта основывается на схемах, заимствованных из внешнего мира. В результате мы имеем многообразие метафорических форм объективации, помогающих нам концептуализировать свой психический опыт. Все метафоры, описывающие психический опыт, удобно представить в виде оппозиций — пар противоположностей, в рамках которых высвечивается психическое. В настоящей статье будут рассмотрены некоторые наиболее распространенные метафорические оппозиции, в рамках которых концептуализируется психический опыт.
Активное — пассивное
Г.-Г. Гадамер, вспоминая слова Гегеля о том, что форма предложения не годится для выражения спекулятивных истин, писал, что «философия как таковая не располагает языком, соответствующим ее подлинному назначению»: в философской и в любой другой речи неизбежны стандартные формы предложения, логическая структура, подчинение предиката субъекту и т.д.; такая «логика предложения вводит в заблуждение» и «создает обманчивую видимость, что предмет философии дан и познается также, как наблюдаемые предметы и протекаемые в мире процессы» [5. С.123]. Упоминаемые Га-дамером ограничения языка проявляют себя и в интроспективном описании. В основе практически любого высказывания лежит единая синтаксическая схема субъект—предикат—объект, обязывающая делить реальность на соответствующие фрагменты. В описании психического опыта это выражается, например, в распределении грамматических ролей субъекта и объекта между «Я» и «не-Я» — объективированном фрагментом психического опыта. Выше уже приводились примеры, в которых «Я» берет на себя роль агенса (активного, действующего), а объективированному опыту отводится роль па-циенса (пассивному, подвергающемуся воздействию) и наоборот. По мнению А. Вежбицкой, в русской речи пассивный способ выражения эмоций (т.е. когда «Я» занимает позицию паци-енса) «имеет более широкую степень применимости по сравнению с другими славянскими языками, еще более, нежели в немецком или французском, и значительно более широкую, чем в английском» [4. С.44]. Это означает, что человек реже выступает от имени «активного»
Я (например, вместо «Я хочу» он говорит «У меня появилось желание»).
Активная и пассивная позиция проявляют себя в метафорах взаимодействия или даже «борьбы» с самим собой. А.Маслоу говорил о «гражданской войне» между двумя «частями» одной и той же личности [11. С.182]; Ф.Перлз рассматривал внутриличностный конфликт как метафорическую борьбу между двумя собаками: «верхней» (более активной) и «нижней» (пассивной) [14]. Активная позиция «Я» по отношению к фрагментам психического опыта проявляется в описаниях деятельности, направленной на преобразование самого себя, на борьбу со своими чувствами, на преодоление своей природы. Объективированный психический опыт в этом случае предстает как инертный материал (овеществление) или сопротивляющийся противник (олицетворение). В пассивной позиции может звучать проигранная борьба со своим внутренним миром. Иногда активные фрагменты психического опыта практически перестают быть своими , принадлежащими внутреннему миру человека, они переходят в мир внешний и становятся его действующими агентами. Человек может «заражаться» ими от других людей. Представляя свое «Я» пассивным объектом, человек чувствует себя жертвой своих чувств, инстинктов, не властным над своей «природой».
Оппозиция «активное — пассивное», будучи универсальной, служит основой для развертывания других оппозиций.
Живое — мертвое (овеществление)
Под овеществлением (опредмечиванием, суб-станциализацией) здесь понимается представление фрагментов психического опыта в форме вещей (предметов или субстанций). Ситуацию овеществления психического опыта описывал Э.Фромм в книге «Иметь или быть?». По его мнению, человек не существует (т.е. живет, чувствует, желает и т.д.), а имеет характер, желания, чувства как некие вещи, отчужденные от «Я» [19]. В конце концов в категорию «иметь» попадает сама психика; опредмеченный психический опыт составляет неотъемлемую часть модели внутреннего мира, присущей нашей культуре. С одной стороны, о «потребности субстанциализировать» (Башляр) можно говорить как необходимом шаге на пути познания, поскольку, по словам О. Шпенглера, «лишь безжизненное — и живое, если только отвлечься от его живоначалия, — может быть сосчитано, измерено, разложено» [21. C.251]. Однако, с другой стороны, «субстанциальное объяснение» (Башляр), базируясь на эмпирическом опыте, нередко становится эпистемологическим препятствием, поскольку наделение фрагментов психического опыта субстанциональностью одновременно предполагает перенесение в область психического некоторых свойств субстанции. Вот некоторые примеры.
В первую очередь все предметы внешнего мира находятся в каком-либо агрегатном состоянии . В связи с этим психический опыт, подвергаясь метафорической объективации, также предстает перед нами в том или ином агрегатном состоянии. Поскольку твердое агрегатное состояние ассоциируется с устойчивостью и неизменностью во времени и в различных обстоятельствах, то такое свойство субстанции, как твердость, служит в основном для определения психических феноменов, ощущающихся как стабильные («твердый характер», «структура личности», «нравственный стержень» и т.д.).
Напротив, жидкое агрегатное состояние имеет свойства текучести и изменчивости. В психическом опыте такими свойствами обладают чувства, мысли и другие продукты психической деятельности. Если спокойные, умеренные чувства и мысли можно «замедлить», «направить» в ту или иную сторону, то сильные чувства — это стихийные бедствия (ураган, буря и пр.), независящие от воли человека, разрушающие строения, прочно стоявшие на земле, — устоявшиеся взгляды и смыслы. Например, подобная идея пассивного Я и безличной, но активной и разрушающей стихии дословно слышится в выражении «человек, обуреваемый желаниями».
Газообразные вещества природного мира — это чаще всего нечто незримое и неощутимое; и в психическом опыте они стали прототипами для обозначения некоторых трудно определяемых, неуловимых, тонких, возвышенных понятий. «Духовными потребностями» называют стремления человека отрываться от своего сугубо материального существования и уноситься в область, очищенную от каких-либо «грубых» проявлений жизни. Маслоу поместил духовные потребности на вершину своей пирамиды, утверждая этим древнюю метафорическую вертикаль «материя (земля) — дух (небо)».
В «Философии религии» Гегель напоминает, что в древнееврейском и арамейском языках одно и то же слово означает «дух» и «ветер». По его мнению, образное выражение Евангелия от Иоанна: «дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит...» (Иоанн, 3:8) надо понимать, исходя из этого языкового факта. То же относится к греческим словам: πνευμα — дуновение, ветер, дыхание, запах, звук, дух, жизнь; ψυχή — дыхание, дух, душа, сознание, жизнь, настроение, чувства, бабочка. Понимание у разных народов души как ветра или дыхания (еврейск. «руах», лат. anima), возможно, связано также с непосредственным наблюдением и сравнением живого (дышащего) существа и мертвого (бездыханного) тела. Посредством словесного обозначения (метонимического переноса) одно из главных качеств живого человека — способность дышать объективировалось, превратилось в субстанцию жизни.
Дух-ветер одновременно обладает двумя противоречивыми свойствами. С одной стороны, он неподвижен как присутствующий повсюду, а значит может символизировать стабильные психические процессы («сильный духом»); однако, с другой стороны, газы и жидкости — это подвижная и изменчивая форма материи («ветреный человек»). Способность к самостоятельному движению и изменению — это признак жизни. Поэтому образы реки, ветра и пр., символизирующие чувства, мысли и другие психические феномены, имеют тенденцию оживотворяться , однако, сохраняя при этом безличный характер.
Другое свойство субстанции, связанное с агрегатным состоянием, — наличие веса также нашло метафорическое применение в описании психического опыта. Например, говоря о каком-либо «гнетущем» чувстве, человек может сравнить его с тяжелой ношей или камнем, сгибающим человека, заставляющим опуститься на землю. Напротив, легкость ассоциируется с чрезвычайно подвижной (а значит, более живой), утонченной, стремящейся кверху субстанцией. В контексте психического опыта эта легкость может быть оценена позитивно, как жизнерадостность, оптимистичность, раскованность («легкий характер», «легкий в общении»), или негативно, как излишняя поверхностность и изменчивость («легкое поведение», «легкомысленный»).
Нередко объективированный психический опыт оценивается как нечто холодное или горячее. Во внешнем эмпирическом опыте повышение температуры вещества сопровождается переходом в другое агрегатное состояние, более подвижное и неустойчивое. Поэтому более горячим становится психический опыт, характеризующийся активностью и эмотивностью (ср.: «холодное сердце», «горячая любовь»). Напротив, холод — это отсутствие эмоций или даже жизни. Нетрудно найти эмпирические основания в утверждении Демокрита о том, что душа есть некий огонь и тепло [1. C. 375]. Присутствие души согревает тело, пробуждает его от «зимнего сна». Помимо этого физическое свойство «теплота» приобретает в контексте межличностных отношений значение доверия, безопасности, психологического комфорта (в противоположность, например, «похолоданию» отношений).
Таким образом, «вещественные», предметные оппозиции, присущие внешнему субстанциональному миру («твердое — мягкое», «тяжелое — легкое», «горячее — холодное» и др.), помогают не только осмыслить и описать мир психических феноменов, но и оценить его. Более того, с овеществлением связан ряд оппозиций, несущих исключительно оценочную функцию, например: «дорогое — дешевое», «свое — чужое». «Свое» отличается от «чужо- го» тем, что первое признается принадлежащим «Я» («мой характер»), а второе считается собственностью другого, хотя и проявляется в моем психическом опыте («отцовский характер»).
В каком-то смысле опредмечивание («омертвение») — это подчинение себе собственной психической жизни, овладение ею. Во-первых, овеществление представляет объективированную от «Я» часть неживой , а значит, имеющей более низкий ранг по сравнению с живым Я. Во-вторых, овеществление есть фиксация живого, непредсказуемого экзистенциального опыта. Предметность — это гарантия отсутствия у «не-Я» собственного, альтернативного «Я» желания. Подобно тому, как в мифе некоторые предметы приобретают «абсолютность функции» (Я.Э. Голосовкер), так опредмечивание психического опыта — это наделение изменчивого (живого) свойствами стабильности и долговечности. Превращение в предмет (предметное существование) — это плата за увековечивание. Само же «Я» при этом бесконечно истончается и становится все более неуловимым, так как любая попытка его определения через категорию «иметь» лишь отслаивает от него очередную «вещь».
Живое — мертвое (механистические метафоры)
Всю предметность можно условно поделить на природную и искусственную предметность, на φύσις и τέχνη. Сравнение психического опыта с природной предметностью, как это мы обнаруживаем в поэзии, помогает человеку включиться в картину живого бытия, почувствовать себя частью Природы. Сравнение же с искусственной предметностью снижает самобытие до мертвой вещи, пусть даже очень тонкого и изящного механизма, но искусственного.
Механистические метафоры — это, с одной стороны, частный случай овеществления, а с другой — его дальнейшее развитие. Представление человека в виде механизма, собранного из деталей, или автомата продолжает оставлять человека неживым, хотя и придает ему важную способность живого организма — способность к движению. Однако движение машины не мо- тивированно изнутри, оно пассивно и является результатом внешней воли. Этим движение машины отличается от движения любого живого существа, подчиненного некой внутренней цели. В «Трактате о душе» Аристотель писал, что душа не только сообщает живым существам движение, но что она сама обладает «способностью к стремлению» и есть «само себя движущее» [1. C. 375, 399].
Признаки «механистического мышления о мире» (математическое описание реальности, логический анализ, концепция причинности и пр.), по мнению О. Шпенглера, существуют очень давно. «Их встречаешь уже в первых столетиях всех культур, еще слабыми, обособленными, еще теряющимися в полноте религиозного миросозерцания» [21. C. 255]. Устойчивое же механистическое видение природы, как писал Н. Бор, явилось естественным результатом великих открытий эпохи Возрождения в области анатомии и физиологии, и особенно благодаря появлению классической механики, «использующей детерминистическое писание, из которого исключена всякая ссылка на цель» [3. C. 489]. Утверждению современного механистического мировоззрения, безусловно, способствовала картезианская парадигма. Но если Декарт отождествлял животных с рефлекторными машинами, а в отношении человека допускал наличие самостоятельной мыслящей души в машинной структуре тела, то французские материалисты VIII в., в частности Ламет-ри, автор книги «Человек — машина», принимали в основном положение, что человек есть автомат, упрекая Декарта в допущении божественной силы в человеческом теле. В середине XIX в. понимание человека как автомата было подхвачено многими учеными-материалистами. Сложные физиологические процессы в организме человека они сводили к механическим и автоматически протекающим явлениям. Физико-химические процессы, описываемые современными естественными науками о человеке, есть дальнейшее развитие механистических метафор.
Наконец, «жертвой» механистической концептуализации стала сама душа. Если перенос законов механики на жизнь тела чаще всего, действительно, оправдан, то осмысление психики в терминах механизма, проецирование технических метафор на душевную жизнь, ее «автоматизация», представляется не всегда корректным, несмотря на широкое распространение такой проекции. По мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, метафора «психика — это машина» используется в основном для описания деятельности интеллекта: он может находиться в рабочем или выключенном состоянии, обладает некоторой производительностью, внутренним устройством, источником энергии и эксплуатационными условиями [9. C. 411]. Лексически это проявляется в широком диапазоне метафор: от незаметных метафорических предикатов («Мой ум сегодня не работает») до образных выражений («шарики», «винтики», «тормоз» и пр.). Практически не существует такого описания интеллектуальных операций, которое не восходило бы к метафоре какого-либо физического действия [15. C. 45]. Кроме этого, механистические метафоры можно найти в попытках осмыслить эмоциональную жизнь, что проявляется в выражениях типа: «выпустить пар», «эмоции зашкаливают» и пр., а также при описании человеческих отношений («кнопки», «рычаги», «манипуляции» и пр.).
Вся так называемая «объективная» психология насыщена языком механистических метафор. И, надо признать, они действительно обладают большим эвристическим потенциалом, который еще не будет исчерпан очень долго, поскольку механизм, в терминах которого осмысливается психическая жизнь человека, может быть как грубым (типа парового котла), так и весьма утонченным (компьютер). Можно сказать, что с развитием высоких технологий дифференцируется и обогащается наше механистическое понимание себя.
В то же время, как уже говорилось, механистическое самопонимание несовместимо с понятием цели или свободы воли, напротив, оно соотносится с ощущением включенности в не- кое неподвластное собственной воле действие1. Помимо явных механистических метафор такое мироощущение может выражаться также в некоторых грамматических конструкциях, например в безличных высказываниях («У меня так получилось», «Мне пришлось это сделать» и др.). Г.И. Гурджиев писал: «Человек — машина. Все его стремления, действия, слова, мысли, чувства, убеждения и привычки — результаты внешних влияний. Из себя самого человек не может произвести ни единой мысли, ни единого действия. Все что он говорит, делает, думает, чувствует — все это с ним случается....Человек рождается, живет, умирает, строит дом, пишет книги не так как он того хочет, но как все это случается. Все случается. Человек не любит, не ненавидит, не желает — все это с ним случается»2.
В заключение отметим, что для феноменолога использование механистических метафор (как и других) в описании души не несет такого драматизма: если относиться к механистическим определениям с позиции феноменологической установки, то они уже не воспринимаются как «реальность», а исключительно как одна из возможных форм описания, существующая наряду с другими.
Живое — мертвое (олицетворение)
Олицетворение, или персонификация3, есть представление фрагмента внутреннего опыта в виде живого существа, т.е. некой сущности, обладающей собственной волей, свободой и относительной независимостью от «Я». В этом случае внутренние процессы уподобляются отношениям между «Я» и этим живым существом, теперь мы имеем «внутриличностные взаимоотношения». Иногда вместо термина «персонификация» («создаю личность») используют слово «субъектификация» («создаю субъекта»), которое представляется более общим понятием, чем первое, и подразумевает атрибуцию субъектности, т.е. процесс и результат наделения чего-либо свойствами, качествами и функциями субъекта [7]. Наделение объектов и явлений субъектностью может происходить в различных формах — типах субъек-тификации: 1) анимизация — наделение объектов и явлений духом, душой, способной активно и самостоятельно действовать; воплощение объектов и явлений в образе живого существа; «одушевление»; 2) персонификация — воплощение объектов и явлений в образе человека, самостоятельной личности; «олицетворение», «очеловечивание». Варианты персонификации: антропоморфизация — наделение объектов и явлений человеческой формой, телесное уподобление человеку; антропопатизм — наделение объектов и явлений человеческими свойствами, психическое уподобление человеку.
Как уже говорилось, олицетворение естественным образом происходит уже на уровне формальной структуры высказывания, благодаря которой именованные фрагменты психического опыта вступают друг с другом в «агенс-но-пациенсные отношения» [8]. Абстрактные понятия как субъекты в грамматическом смысле становятся псевдореальными действующими лицами, а предикаты толкуются как их действия. С формальной точки зрения интроспективный нарратив, рассказ о психическом опыте, превращается в описание сюжета, в котором некие существа производят какие-то действия над объектами, живут какой-то своей особой жизнью. Кроме этого, существуют феноменологическая основа для персонификации. Спонтанное изменение психического опыта, неожиданное возникновение каких-либо переживаний феноменально воспринимается как несвязанное с участием «Я» («сознания»), отождествляется с собственной деятельностью этого опыта, обусловленной его внутренними намерениями (мотивами). Так психический феномен наделяется собственной волей и оживает. К.Юнг вспоминает слова Оригена: «Видишь, что тот, кто счи- тается единым, не един, но кажется, что в нем столько лиц, сколько в нем устремлений»1.
Практически любое представление о личности (будь оно научное или житейское) содержит в своем описании разного рода отчужденные от «Я» метафизические сущности, «понятия-оборотни, превратившиеся из научных категорий в сказочно-мифические существа» [20], которые чаще всего неосознанно воспринимаются как действительно существующие. Таково, например, понятие «бессознательного», которое предназначалось для того, чтобы объяснить средневековое представление об «одержимости», а по сути стало лишь другим названием для тех же субъективно переживаемых феноменов. Так же, как средневековый демон, оно «рвется наружу», «сопротивляется» и т.д. Сам З. Фрейд писал о своей теории как мифологии, где «влечения — мифические существа, грандиозные в своей неопределенности» [18. C. 358]. К. Юнг также сравнивает невротическое бессознательное содержание со «зверем» и «устрашающим чудовищем», поскольку именно так ощущают его сами пациенты [22. C. 119]. Э. Берн представлял личность человека (Я) как совокупность «эго-состояний» (Родителя, Взрослого и Ребенка), взаимодействие которых между собой и с эго-состояниями других людей определяет личную и социальную жизнь человека. Различные составляющие Я формируются в течение раннего детства в результате интериоризации (т.е. «переноса внутрь себя») значимых представителей социума. Нормальное состояние связывается с гармоничным соотношением между эго-состояниями, проблемное — с гипертрофированной ролью одного из них (Берн).
Внешнее — внутреннее
Полярность «внешнее — внутреннее» принадлежит к пространственным оппозициям и включает ряд вариантов («глубокое — поверхностное», «скрытое — явное» и др.), помогающих осмыслить психический опыт человека как
«вместилище» [9. C. 414]. Такая модель исходит из эмпирического опыта взаимодействия с реальными объектами, отделенными от внешнего мира поверхностью и обладающими внутренним пространством (содержанием). Осмысление психического опыта в терминах этой модели подразумевает представление его объектом, имеющим некую внешнюю (видимую) и более внутреннюю (скрытую) часть. Вот некоторые примеры осмысления психического состояния как вместилища, приводимые Дж. Лакоффом и М. Джонсоном: «Он впал в эйфорию (в шоковое состояние, в депрессию и т.д.)», «Он вышел из комы», «Он влюблен» (особенно явно этот пример звучит на английском: «He's in love»).
Невидимость психических явлений одновременно несет объективный и субъективный характер. Во-первых, деятельность органов, ответственных за психическую жизнь, физически скрыта от непосредственного наблюдения; во-вторых, проявления самой психической жизни не всегда понятны, т.е. интеллектуально не доступны наблюдателю (которым может быть и сам субъект). Здесь прослеживается древняя параллель между знанием и видением, когда отсутствие знания часто ассоциируется с невидимостью, скрытостью. Многие термины, применяющиеся для описания психики человека, несут в себе метафору «глубины» («интуиция», «интроспекция» и др.). Существует известное сравнение личности со сферой, состоящей из нескольких слоев [22]. Эта модель выражена в словосочетаниях: «глубинная психология», «ядро личности», «поверхностная проблема» и др. Процесс самопознания, исходя из этой модели, есть «самокопание», а работу психоаналитика К. Юнг называл «археологией души». Слово «подсознание» означает некую скрытую область души, находящуюся в глубине «сознания» (под ним), предназначенную для хранения некоторого содержания (комплексы, архетипы, инстинкты). В.Н. Цапкин считает, что такое осмысление бессознательного как «некой вещи-вместилища, обладающего своей специфической пространственной локализацией», за- трудняет осмысление бессознательного как процесса [20].
Пространственный характер оппозиции «внешнее — внутреннее» не мешает ей нести социальную, этическую или другую оценку. Например, внутреннее часто представляется как более истинное, чем внешнее. Это проявляется в обсуждавшейся выше оппозиции «маска — лицо»: с одной стороны, нечто ложное, а с другой — нечто настоящее. По К. Юнгу, «Персона» (лат. persona — маска, личина) — это архетип души, предназначенный для существования человека в обществе и скрывающий от окружающих индивидуальную его сущность. Обратные оценочные отношения предстают в метафорической оппозиции «лицо — изнанка». Здесь оценка внешнего и внутреннего производится не по критерию истинности или ложности, а с точки зрения социальной приемлемости. Изнанка (даже если она — истинная внутренняя индивидуальность) всегда хуже лицевой поверхности. В оппозиции «скрытое — явное» первое может означать как нечто негативное, так и нечто очень дорогое; и то и другое вызывает необходимость его скрывать. Эта скры-тость порождает тенденцию к открыванию (разоблачению). Напротив, «явное» означает «всем понятное», возможно, не стоящее внимания. «Поверхностное — глубокое» — еще один вариант оппозиции и еще одна социальная оценка. Подобно тому, как поверхностные слои воды в потоке реки меняются значительно быстрее, чем глубокие, «поверхностные» чувства являются чем-то менее значимым и важным по сравнению с «глубокими». Осмысление психической реальности как вместилища легло в основу еще одной оценочной оппозиции: «полное — пустое», где, с одной стороны, нечто «достаточное», «полноценное», «серьезное», «содержательное», а с другой стороны — «легкомысленное», «неосновательное», «пустяковое», «незначительное».
Высокое — низкое
«Высокое — низкое» — пространственная оппозиция, которая относится к такому особому измерению, как вертикаль. Именно благодаря этой отнесенности она в основном несет функцию оценки. Различные образы, связанные с идеей «верха», чаще обозначают нечто чаемое, предмет устремления, некое благо; «низ», напротив, связан с противоположными значениями. Как уже отмечалось выше, такое упорядочивание психического содержания в пространственных терминах не случайно и коренится в физическом и культурном опыте, т.е. имеет эмпирические основания. Перечислим некоторые из них.
-
1. Все люди подвержены физическому закону тяготения, и поэтому идти вверх обычно более трудно, чем вниз; это делает естественной ассоциацию идеи восхождения вверх с идеей достижения [17. C. 98]. Для подъема или поднимания чего-либо необходимы усилия, физическая активность, а потому чаще всего активное есть верх, а пассивное — низ: мы «берем верх» над обстоятельствами и не «поддаемся» соблазнам [9. C. 407].
-
2. Человек развивается, растет в направлении снизу вверх. Стало быть, меньшее есть менее зрелое, менее развитое и более беспомощное. Это делает возможным ассоциацию различных образов, коннотирующих высоту и подъем, с идеей превосходства, привилегированного положения и власти [17. C. 98]. В то же время «унижение» есть буквально «принижение статуса» человека.
-
3. Негативные чувства выражаются в ослаблении физического тонуса, тело не держит себя, оно сгибается как будто под тяжестью. Грусть и уныние гнетут человека, и он опускает голову, а положительные эмоции, напротив, распрямляют его и заставляют поднять голову; серьезная болезнь вынуждает человека лежать; мертвый человек лежит [9. C. 397]. Эти основания лежат в выражениях типа: «У меня приподнятое (подавленное) настроение», «Он находится под гнетом своих проблем», «Он на вершине здоровья» и пр.
-
4. Оппозиция «высокое — низкое» связана с оппозицией «большое — маленькое», которая благодаря своим эмпирическим основаниям ассоциируется с социальной оценкой. Большой предмет занимает большое место в поле зрения.
-
5. Предметы, находящиеся ближе к земле, как правило, менее чистые, а значит, более «дурные». Отсюда негативная оценка «низа»: мы «низко падаем», поддаваясь «грязным» чувствам. «Низ» — это не только земля, но и ниже — подземное пространство, которое вносит новую оценку. «Образ Бездны в религиозной символике, связанный с представлением о крутом обрыве, подкрепляется глубоко лежащим в человеке страхе падения, внезапной утраты точки опоры (как это может быть эмпирически обнаружено при наблюдении над детьми). Отсюда вероятность связи понятия “низ” с идеями пустоты и хаоса» [17. C. 98].
Поэтому, говоря о каком-либо важном , значимом для нас чувстве или талантливом человеке, мы употребляем эпитет «большой».
Таким образом, с «высоким» чаще всего ассоциируются такие взаимосвязанные понятия, как добро, радость, сознание, здоровье, власть, успех, будущее, добродетель, разум; напротив, с «низким» связываются противоположные понятия: зло, грусть, бессознательное, болезнь, подчинение, неудача, прошлое, порок, страсти; при этом наши фундаментальные социокультурные ценности существуют не изолированно друг от друга, а «системно упорядоченны», т.е. образуют взаимно согласованную метафорическую структуру [9. C. 396-400, 405].
Иногда с понятием низа ассоциируются также положительные значения, по мнению Ф. Уилрайта, оставившие гораздо меньше следов во фразеологии разговорного языка: (1) «близость к земле» может означать «большую устойчивость, основательность», так как низкие и широкие предметы гораздо устойчивее узких и длинных («спуститься на землю»); (2) в мифопоэтическом творчестве понятие низа часто ассоциируется с щедрым лоном земли — праматерью и кормилицей всего живого [17. C. 98].
Светлое — темное
«Светлое — темное» — это еще одна оппозиция, пришедшая из физического опыта; в контексте опыта психического она в основном имеет оценочный характер. «Из всех архетипических символов, вероятно, нет более широко распространенного и более непосредственно постигаемого, чем “свет”, символизирующий определенные умственные и душевные качества» [17. C. 101]. Оппозиция «светлое — темное» эмпирически связана с такими полярностями, как «высокое — низкое», «теплое — холодное», «чистое — грязное»; и все эти понятия связаны в единую систему средств социальной оценки.
Ф. Уилрайт отмечает ряд естественных особенностей света, которые явились основанием для использования его как метафоры некоторых психических феноменов. Прежде всего свет является условием видимости, он ясно очерчивает контуры предметов, невидимые в темноте. «Сделав легкий и метафорический шаг, мы можем перейти от этого наблюдаемого действия света в физическом мире, состоящего в прояснении пространственных границ и форм, к действию разума, устанавливающего границы и формы идей в интеллектуальных конфигурациях» [17. C. 101]. Поэтому идея освещенности, которая выражается в таких «световых» метафорах, как «прояснить», «пролить свет», «осветить», «иллюстрировать» и пр., соотносится со значениями понятности, учености, разумности и осознанности. Напротив, понятия необразованности, неосознанности ассоциируются с образами «плохой видимости»: темнотой, туманом, мраком. Архетип «тень» был выбран К. Юнгом для описания области, скрытой от сознавания, а алхимические термины «nigredo» и «tenebrositas», означающие «затененность», он ассоциировал с тягостным душевным конфликтом [22. C. 134].
Особое место в оппозиции «светлое — темное» занимает образ света как огня. Древние люди видели, что огонь стремится кверху, а источником земного огня и света является в конечном счете Солнце. Поэтому свет-огонь, когда он был связан с идеей направленности вверх, чаще всего имел положительные символические коннотации. Считается, что лат. gloria («слава», «триумф») представляет собой перевод древнееврейского слова, означавшего «интенсивный свет» [17. C. 104]. Существует еще одно свойство света-огня, которое всегда будо- ражило людское воображение и не поддавалось рациональному объяснению. «С древнейших времен люди замечали с благоговейным ужасом, что огонь может возникать в результате внезапного воспламенения и что его размер и интенсивность могут увеличиваться с драматической быстротой» [17. C. 104]. Это иррациональное свойство огня нашло применение в метафорической объективации сильных чувств и страстей («вспышка ярости», «пламя любви» и пр.). И здесь мы можем наблюдать постепенный переход от позитивной идеи света к негативной: «чрезмерно яркий свет нередко производит ослепляющий эффект, особенно на слабые глаза, и поэтому начинает ассоциироваться с тьмой» [17. C. 104]. При этом прежде всего имеется в виду сила чувства, а не его вид: человек может быть «ослеплен» и гневом, и любовью.
Однако огонь все-таки управляем: «пламя могло быть размножено от факела к факелу и от очага к очагу» [17. C. 104] или, напротив, потушено. Эту идею мы можем найти в метафорах, описывающих пробуждение какого-либо чувства у другого человека («зажечь страсть») или его «угасание». В подобных случаях имеет значение не столько изолированные образы света или тьмы, сколько переход от одного состояния к другому. Наступление темноты сопровождается «мрачным настроением», чувством тревоги, страха и другими неприятными ощущениями, а рассеивание тьмы («победа света») несет с собой «светлые чувства»: радость, восторг, прилив сил и т.д.
* * *
В задачи настоящей статьи не входит исчерпывающее описание всех возможных метафорических оппозиций, описывающих психический опыт. Выше были приведены примеры-иллюстрации, показывающие иносказательный характер большинства интроспективных высказываний. Все метафорические оппозиции так или иначе основываются на имеющемся у любого человека эмпирическом опыте, а потому в большинстве случаев делают понятным и наглядным описываемый опыт. Некоторые оппозиции настолько естественны и настолько глу- боко пронизывают наше мышление, что они воспринимаются как самоочевидные, как прямые описания явлений внутреннего мира, а тот факт, что они представляют собой метафорические выражения, просто никогда не приходит в голову большинству носителей языка. Мы не ощущаем метафоричности самоописания, поскольку у нас просто нет альтернативного способа описания.
Список литературы Метафорическое описание психического опыта
- Аристотель. Соч.: в 4 т./ред. В.Ф. Асмус. М.: Мысль, 1976. Т. 1. 550 с.
- Берн Э. Игры, в которые играют люди; Люди, которые играют в игры/под общ. ред. М.С. Мацковского. М.: Прогресс, 1988. 400 с.
- Бор Н. Избранные научные труды: в 2 т. М.: Наука, 1971.Т. II. 675 с.
- Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание/отв. ред. М.А. Кронгауз; вступ. ст. Е.В. Падучевой. М.: Русские словари, 1996. 416 с.
- Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. 367 с.
- Голосовкер Я.Э. Логика мифа/сост. и авторы примеч. Н.В. Брагинская и Д.Н. Леонов. М.: Наука, 1987. 218 с.
- Дерябо С.Д. Феномен субъектного восприятия природных объектов//Вопр. психологии. 2002. № 1. С. 45-59.
- Лакофф Дж. Лингвистические гештальты//Новое в зарубежной лигвистике. Вып. X. М., 1981. С. 350-368.
- Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем//Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 387-415.
- Ламетри Ж.О. Сочинения/общ. ред., предисл. и примеч. В.М. Богуславского. М.: Мысль, 1976. 551 с.
- Маслоу А. Психология бытия. М.: Рефл-бук, 1997. 304 с.
- Нейсбит Д. Высокая технология, глубокая гуманность: Технологии и наши поски смысла/пер. с англ. А.Н. Анваера. М.: АСТ: Транзиткнига, 2005. 381 с.
- Орлов А.Б. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека//Вопр. психологии. 1995. № 2. С. 5-19.
- Перлз Ф. Гештальт-терапия дословно//Моск. психотер. журнал. 1994. № 3. С. 162-164.
- Ричардс А. Философия риторики//Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 44-67.
- Трунов Д.Г. Объективация психического опыта//Вестник Пермс. ун-та. Философия. Психология. Социология. 2010. Вып. 3. С. 71-81
- Уилрайт Ф. Метафора и реальность//Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 82-109.
- Фрейд З. Введение в психоанализ: лекции. М.: Наука, 1989. 456 с.
- Фромм Э. Иметь или быть? М.: Прогресс, 1986. 238 с.
- Цапкин В.Н. Единство и многообразие психотерапевтического опыта//Моск. психотер. журнал. 1992. № 2. С. 5-41.
- Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1993. 663 с.
- Юнг К.Г. Психология переноса. Статьи: сб. М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1997. 304 с.