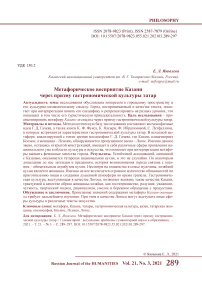Метафорическое восприятие Казани через призму гастрономической культуры татар
Автор: Яковлева Елена Людвиговна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (55), 2021 года.
Бесплатный доступ
Актуальность темы исследования обусловлена интересом к городскому пространству и его культурно-символическому смыслу. Город, воспринимаемый в качестве текста, помогает при интерпретации понять его специфику и репрезентировать на разных уровнях, что повышает в том числе его туристическую привлекательность. Цель исследования - проанализировать метафору Казань-женщина через призму гастрономической культуры татар. Материалы и методы. Методологическую базу исследования составляют космософичные идеи Г. Д. Гачева, а также книги К. Ф. Фукса, К. Насыри, Ф. Ибрагимовой, С. Лутфуллина, в которых встречаются характеристики гастрономической культуры татар. В исходной метафоре, анализируемой с точки зрения космософии Г. Д. Гачева, где Казань олицетворяет Космос, а женщина - Психею, обнаруживается пропущенное звено - Логос. Именно данное звено, оставаясь открытой конструкцией, вмещает в себя различные сферы проявления национального ума в области культуры и искусства, что помогает при интерпретации метафоры выявить феминные качества города. Результаты. Устойчивой ассоциацией, связанной с Казанью, оказывается татарская национальная кухня, и это не случайно. По некоторым дошедшим до нас легендам и преданиям, история возникновения города связана с казаном - обязательным атрибутом кухни. Несмотря на главенство в семье мужчины, хозяйкой кухни является женщина. Именно на нее возлагается огромное количество обязанностей по приготовлению пищи и созданию душевной атмосферы во время трапезы. Гастрономическая культура, выступающая в качестве Логоса, позволяет выявить такие качества Казани, трактуемой в качестве образа женщины-хозяйки, как гостеприимство, радушие, уважение, чуткость, творческий подход, рационализм, умелое и бережное обращение с продуктами. Обсуждение и заключение. Прояснение значений содержания метафоры Казань-женщина требует дальнейшего изучения. При этом в качестве Логоса могут выступать иные сферы культуры и различные тексты искусства.
Метафора, казань, татары, гастрономическая культура, казан, татарская женщина, космософия, космос, психея, логос
Короткий адрес: https://sciup.org/147236024
IDR: 147236024 | УДК: 130.2 | DOI: 10.15507/2078-9823.055.021.202103.289-297
Текст научной статьи Метафорическое восприятие Казани через призму гастрономической культуры татар
Город является искусственной и социально преобразованной средой обитания человека. Понимание его сущности связано с осмыслением личностью. Нередко она воспринимает город в качестве живого существа, «реально либо виртуально/ мысленно общаясь с ним» и «подключая к процессу свой двигательный/визуальный/ тактильный/слуховой/обонятельный опыт бытия в городском пространстве» [13]. Яркость восприятию образа города придает его телесность, в которой обнаруживаются половые характеристики. Ощущение города как тела позволяет индивиду обнаружить
«иных родственников в бытии» [3, с. 227], что помогает человеку в процессе идентификации себя со средой обитания. Известно, что «города предстают в литературе в качестве женских персонажей... в изобразительном искусстве передаются как женские фигуры... в древневосточном культурном пространстве подобные представления воплощаются в образе богини города» [10]. Перечисленное свидетельствует о метафоричности в рецепции городского пространства, трактуемого в качестве одухотворенного существа.
Объектом исследования является Казань. Восприятие ее телесности в качестве женского образа служит источником поиска феминных качеств в бытии города. Дело в том, что тело (город) «сочится духовными смыслами», рождая тело-идею [3, с. 226]. Одной из сфер реализации женского начала является гастрономическая культура, через призму которой анализируются феминные черты Казани. Г. Д. Гачев подчеркивает, что еда – сгусток национального мироздания [3, с. 47]. Национальная пища вместе с другими элементами, в том числе пейзажем, этническим типом, языком, поддерживает ядро города: данные частицы «постоянно подкармливают и воспроизводят национальную субстанцию, особый склад жизни и мысли» [3, с. 354].
Обзор литературы
Проблеме метафоры посвящено достаточное количество работ. Необходимо признать, что «метафоры пронизывают всю нашу повседневную жизнь», а «язык изобилует метафорическими выражениями» [5, с. 627]. Поэтизация посредством метафоры реальности делает ее более близкой для субъективного восприятия, особенно помогая в критические моменты существования. Как справедливо замечает Ф. Р. Анкерсмит, «цель метафоры – подвести к мысли о максимальной непрерывности между воспринимаемым объектом и ощущением, или актом восприятия» [1, с. 56]. В метафоре происходит слияние образа и понятия, что способствует рождению новой, необычной мысли, которая преподносится наглядно и выразительно.
Нельзя отрицать роли метафоры в научном познании. Современные исследователи признают, что в науке метафора концептуальна. Структурируя систему, она показывает опыт ученого, осмысливающего проблему в терминах иной области знания. Метафоричность научного мышления способствует постижению «явления одного рода в терминах явлений другого рода» [6]; «метафора превращает незнакомую реаль- ность в знакомую», «побуждает нас рассматривать менее известную систему в терминах более известной», «всегда показывает нам что-то через что-то другое» [1, с. 38, 117]. Удваивая мир, метафора расширяет пространства познавательного процесса и создает новый слой действительности, помогая углублению смысла. Благодаря метафоре исследователь получает «довольно надежные критерии различения важного и незначительного» [1, с. 64]. Как заметила М. П. Лаптева, «использование метафор – это не прихоть, не излишнее украшательство текста, это лишь один из аспектов терминологического поиска» [7, с. 30].
Среди авторов, обращающихся к описанию гастрономической культуры татар, можно назвать К. Ф. Фукса («Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях»), К. Насыри («Наставления повару»), Ф. Ибрагимову («Мастер кулинарии: подарок для дам»), С. Лутфуллина («Нравственные обязанности мусульман»). Благодаря гастрономическим практикам татар, рассматриваемым в контексте понимания образа Казани как женщины, преодолеваются «колебания историографии между наукой и литературой», открывая познавательные смыслы [2, с. 35].
Методы
Размышления о бытии Казани в образе женщины через призму гастрономических практик татар позволяет выявить в метафоре гачевскую конструкцию космософии – Космо-Психо-Логос. Данная структура раскрывает национальный образ мира, где Космос связан с типом местности Казани, Психея – со складом души и характером человека (женщиной), Логос – с национальным умом, высвечивающимся в гастрономической культуре. При этом город как Космос «создает динамику Психеи… и Логоса» [3, с. 227]. Методологической основой исследования является герменевтический метод, позволяющий выстроить посредством интерпретации аргументированное доказательство в пользу черт женской природы Казани на примере гастрономической культуры.
Результаты
Метафорическое сравнение Казани с женщиной стимулирует поиск черт феминности, нашедших отражение в истории и гастрономической культуре города. Заметим, что Казань находится на левом берегу Волги, где города до XVIII в. называли именами женского рода (вспомним: здесь расположены Кострома, Самара, Астрахань). Принцип такого называния точно не определен. Если обратиться к схеме городского пространства, то в ней проступает женский образ: контур Казани «представляет собой национальный женский головной убор – калфак» [13] – прямоугольник с конусом. Надевая его, женщина могла откинуть конусообразный конец набок или назад, что придавало кокетливости ее облику. Еще одной моделью, скрывающей в себе женское начало, является схема сердца города – Казанского Кремля. При ее рассмотрении можно увидеть «женский профиль с калфаком на голове»: «лобную часть с калфаком составляют Тайницкая и Воскресенская башни, Президентский Дворец и башня Сююмби-ке, глаз – Южный корпус, нос – мечеть Кул Шариф, рот – Преображенская башня, подбородок обрамляет – Юго-Западная башня, а длинная шея красавицы Казани – улица Баумана, где постоянно дует ветер и в зависимости от времени года хочется закутаться то в теплую шаль, то в легкий шелковый платок» [13].
Возникает вопрос: какие сферы культуры и искусства, ставшие выдающимися, говорят о женском начале столицы татар (статистически преобладающая национальность, проживающих в Казани)? Одна из устойчивых ассоциаций связана с татарской гастрономической культурой. В пище «Природа и Культура находятся в диалоге», где Природа являет собой Космос бытия, а «Культура есть прилаженность человека, народа… к тому варианту природы, который ему дан (и которому он придан)» (Психея и Логос) [3, с. 9, 30]. В контексте гастрономической культуры итогом подобного взаимодействия оказывается национальное блюдо, неслышно, но вкусно и ароматно высказывающее «мысль и суждение о мире» [3, с. 56].
Возможно, интенсивное формирование татарской гастрономической культуры и ее яркая история были заложены генетически в историю города, его Космос. Согласно некоторым версиям, основание города было связано с казаном – одним из важнейших атрибутов татарской кухни, символом богатства, изобилия и гостеприимства. По одной легенде, город был основан в красивой местности, где был закопан котел с цепью массой 12 пудов. «Говорят, что котел с цепью до сих пор лежит под городом, только вот найти его никто не может» [11, с. 49]. Согласно другому варианту, люди, следуя совету колдуна, искали место, где закипит котел с водой. Именно место закипания воды в котле стало основанием города. Еще одно предание гласит, что речку, в которую уронил работник князя бакыр казан / медный котел, назвали Казанкой, а «город, построенный на берегу реки, назван Казанью» [11, с. 53]. При этом добавление мягкого знака в окончание слова значительно смягчило его, придав женственности. Благодаря истории с казаном (мужской род), представляющим собой металлический котел для приготовления пищи, женский образ Казани наделяется «чертами маскулинности – силой, мужеством, отвагой, стойкостью, рождая метафору мужественной женщины, о чем свидетельствует более чем тысячелетняя история города» [13].
Обратим внимание еще на один факт, связанный с казаном. Первоначально, в XIII в., город (Иске Казан / Старая Казань)
был основан в местности, напоминающей котел (ныне – район с. Камаево Высокогорского района Татарстана). Это было довольно удобное место в устье р. Казанки. Ландшафт с холмом и крутыми склонами, опоясанный Казанкой, делал Старую Казань неприступной снизу. Впоследствии город перенесли в точку его современного положения. Около Казани протекают Волга и ее приток Казанка. В наименовании рек мы встречаем женский род, что усиливает женскую ипостась Казани. Более того, город, в отличие от городов на правом берегу Волги, имеющих названия в мужском роде (Калязин, Рыбинск, Ярославль, Плёс, Нижний Новгород, Ульяновск/Симбирск, Саратов, Камышин, Волгоград/Царицын и др.), оказывается менее укрепленным, обнажая женскую слабость, хрупкость и беззащитность.
Место основания современной Казани было благоприятным для развития разнообразной кухни татар, т. е. Космос стимулировал развитие Логоса. Территория вокруг Казани с ее «богатыми лесными массивами (преимущественно лиственными и хвойными), речными просторами… и плодородными почвами» позволяла людям заниматься «земледелием (выращивали гречиху, горох, рожь, овес, полбу, пшеницу, просо, чечевицу, ячмень), животноводством (разводили лошадей, баранов, коров, коз), птицеводством (держали кур, гусей, индеек и уток), охотой, рыболовством, бортничеством, а позже – пчеловодством» [14]. Умеренно континентальный климат (с умеренно холодной зимой и теплым летом) заставлял татар выстраивать хозяйственные работы согласно природному графику и оказал воздействие на сезонность кухни, что свидетельствует об их практичности и рациональности.
Возвращаясь к таинственности и неясности происхождения названия города, очередной раз подчеркнем, что ситуация указывает на «женское начало, олицетворяющее потаенность как сокрытость глубоко личного» [13]. Известно, что для татарских женщин характерен скрытный образ жизни. В прошлые века женщины, особенно из богатых семей, прятали лицо, не показывая никому. Как зафиксировал К. Ф. Фукс, они открывали лицо «только в своей спальне, потому что их лица запрещено видеть… каждому мужчине, живущему в доме» [12, с. 30–31]. В семье женщина играла вторые роли, уступая главенство мужчине. Как известно, ислам воспитывает в женщине покорность и зависимость, в первую очередь от главы семьи – мужчины. Данная черта нашла отражение в устройстве татарского дома, который делился на гостевую (репрезентативную, мужскую) и кухонную (скрытую, женскую) части.
В семье татарской женщине была отведена роль хозяйки, умело организующей быт, следящей за порядком и гостеприимно встречающей приходящих в дом. К числу женских обязанностей, связанных с гастрономической культурой, относились присмотр за печью, регулярное приготовление еды, заготовка запасов на зиму и рациональное распределение продуктов питания. В народной мудрости татар женщину называли хранительницей домашнего очага, а печь выступала в качестве ее символа (по Г. Д. Гачеву, дом в доме). Пристальное внимание к печи обусловлено ее значимостью и многофункциональностью. С ее помощью татарские женщины равномерно обогревали дом, готовили еду, пекли хлебобулочные и тестяные изделия, грели воду, сушили дрова и одежду, освещали избу (для этого в ниши ставили дополнительные керосиновые лампы). В печь складывали утварь (посуду, самовар, кумганы), а ее верхнюю часть использовали для сна. Печь играла ключевую роль в гастрономических таинствах, помогая превратить сырое в приготовленное, обладающее националь- ным вкусовым колоритом. «Через горнило стихии огня должно пройти вещество природы, прежде чем стать пригодным для вхождения в нашу нутрь – пищей» [3, с. 25]. Вкушаемая пища, приготовленная на огне, олицетворяла «жажду на тепло жизни» [3, с. 233], а печь стала символом жизненного тепла и сердечности.
Заметим, что огонь уравнивает «траво-ядность и хищность в народах» [3, с. 50]. Не являются исключением и татары. Рационализация их гастрономической культуры привела к тому, что хозяйки с удовольствием использовали элементы как кочевнических, так и земледельческих традиций, нередко творчески совмещая их. Так, в арсенале рецептов хозяйки есть блюда быстрого или несложного приготовления из имеющихся под рукой продуктов (принцип кочевников), но при этом они довольно сытные (принцип земледельцев): цель такой еды «между делом и для дела» (Г. Д. Гачев). Смешение традиций обогатило рецептурный репертуар татарок, делая их стол разнообразным. Более того, «начав пропускать сырую ткань плодов и тел через огонь, травоядные народы обретают необходимую энергию, огненность-мысль, форму, а бывшие хищные мясоедные обретают кротость, уравновешенность… и получают мягкость, рассудительность, сове(с)тли-вость» [3, с. 51]. Перечисленное отразилось и на душевных качествах татарской женщины. Она, управляя процессом создания пищи, энергична и активна в доме, дарит окружающим душевное тепло, соблюдает во всем меру, поддерживает чистоту.
В процессе приготовления пищи хозяйки учитывают и религиозный фактор. Согласно шариату, у татар существуют пищевые запреты, предпочтения и ограничения. К числу продуктовых табу «в исламе относят свинину, мясо павших/мертвечину или растерзанных хищниками животных, животное, не забитое с именем Аллаха, жи- вотное, убитое через удушение, кровь животных и птиц, вино» [14].
В целом на татарскую женщину возлагается довольно большое количество обязанностей, связанных с питанием. Она «должна знать качество продуктов, из которых готовится еда для ее домочадцев» [4, с. 31], заранее продумывать меню, заготавливать продукты. Относясь к пище как к благу, хозяйка проявляет рациональность, экономность, чистоплотность. К. Насыри в своей книге затрагивает и проблему умений и навыков хозяйки, ловкого обращения с продуктами на кухне, чуткости к процессу приготовления блюда и даже интуитивности. Выделяя несколько способов приготовления блюд («еду можно сварить в воде, будет бульон, а можно пожарить на сковороде, тогда будет кебаб»), автор подчеркивает, что в процессе приготовления пищи хозяйка должна «знать меру, так как если пища разварится, вкус ее потеряется, если же недоварится или внутри будет сырым, тоже не очень приятно» [9, с. 7].
Особое внимание хозяйка уделяет праздничному столу: изобилие блюд и их хорошие вкусовые качества – залог прекрасного и сытного застолья. Накрытый стол символизирует богатство и широту души человека. За всем этим стоит фигура хозяйки: на основе рецепта она умело превращает продукты в сытные, питательные и изысканные национальные блюда. В этом процессе важен ее внутренний мир. Женщина должна готовить еду с воодушевлением, излучая любовь и счастье. Ф. Ибрагимова наставляла: «Пусть на лице у тебя будет живая улыбка», так как от нее зависит атмосфера в доме [4, с. 20]. Хозяйка, накрывая стол и встречая домочадцев/ гостей, «должна быть счастлива», скрывая от всех жизненные трудности и негативные эмоции [4, с. 20]. Приготовление еды, подготовка к трапезе и застолье должны сопровождаться со стороны хозяйки только по- ложительными эмоциями, что благотворно влияет на качество блюд, процесс вкушения и позитивный настрой сидящих за столом. Возможно, в этом проявляется не только женская мудрость и философия гостеприимства, но и мусульманская скрытность, покорность. Вспомним черты характера, которые необходимо развивать мусульманам: дружелюбие, милосердие, щедрость, трудолюбие, терпеливость, стыдливость, уважение, человеколюбие, вежливость, мягкость, скромность, – что демонстрирует уровень культуры личности [8, с. 19]. Хозяйка на кухне, «не ведая того, делает глубинно-духовное дело, непрерывно изготовляет, вырабатывает и питает… самыми фундаментальными идеями и суждениями о бытии, которые залегают в плоть, и кровь, и сок»: «через вкушение внушение кардинальных идей творится» [3, с. 56].
Обсуждение
Благодаря мышлению посредством метафор в науке определенное сходство феноменов позволяет проявиться новому и неожиданному знанию. Метафорическое сравнение Казани с образом женщины наделяет его особыми чертами, в которых высвечивается своеобразие народа и его культуры. В метафоре, связывающей понимание города с образом женщины, можно обнаружить часть гачевской конструкции космософии, где Казань олицетворяет Космос, а женщина – Психею. В качестве отсутствующего звена выступает Логос, роль которого играет гастрономическая культура.
Новый ракурс исследований города, связанный с гачевской космософией, помогает выявить специфичность восприятия города на субъективном уровне, что обусловлено объективными чертами. Следуя логике размышлений Г. Д. Гачева, мы выясняем, что метафора Казань-женщина , заключающая в себе Космос и Психею, оказывается неполной конструкцией, нуждающейся в
Логосе, где при интерпретации может раскрыться ее содержательно-символическое наполнение. В качестве Логоса могут выступать различные сферы культуры и тексты искусства, что стимулирует дальнейший поиск феминных черт Казани.
Заключение
Окружающая природная среда Казани (Космос) дает жителям огромное количество даров, бо́льшая часть которых проходит с помощью женщины (Психеи) тепловую (огневую) обработку на кухне, удовлетворяя насущную потребность человека в еде и поддерживая жизнь. Гастрономическая культура, как Логос, кормит жителей идеями природы (семенами, плодами, продуктами), наполняя их знанием о родном городе (Космосе). Богатство казанского Космоса повлияло на разнообразие Логоса (гастрономической культуры), чему в немалой степени способствовала женщина (Психея). Насыщенная благоуханиями и колоритными сочетаниями местность города стала источником разнообразия и ароматов татарских блюд, пропитанных воздухом, солнечной энергией, землей и водой казанской природы. В гастрономической культуре татарка при ее скрытном образе жизни наиболее ярко демонстрирует женскую природу. Она оказывается умелой хозяйкой, рационально и практично подходящей к меню, творчески создающей блюда, учитывая традиции и религиозные предписания, виртуозно создающей комфортные пространства трапезы, что высвечивает ее любовь к жизни, радушие, чуткость, богатство души, желание дарить тепло и процветать. Гастрономическая культура Казани-женщины вносит гармоничные нотки в ее непростую историческую судьбу. В современности гастрономические изыски казанской земли оказываются одним из привлекательных компонентов, способствующих развитию туризма. Сегодня Казань, выступая в роли гостеприимной хозяйки, привет- ливо встречает гостей, проявляя уважение к каждому и угощая разнообразными блюдами национальной кухни. Богато накрытым столом столица Татарстана укрывает печальные страницы истории, демонстрируя радушие.
Список литературы Метафорическое восприятие Казани через призму гастрономической культуры татар
- Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. - М. : Канон-плюс, 2009. - 399 с.
- Вжосек В. Культура и историческая истина. - М. : Кругъ, 2012. - 334 с.
- Гачев Г. Д. Космо-Психо-Логос. Национальные образы мира. - М. : Академический Проект, 2015. - 511 с.
- Ибрагимова Ф. Мастер кулинарии: подарок для дам. - Казань : Познание, 2017. - 233 с.
- Кармин А. С. Интуиция. Философские концепции и научное исследование. - СПб. : Наука, 2011. - 901 с.
- Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем [Электронный ресурс]. -М. : Едиториал УРСС, 2004. - URL: https://studwood.ru/1342632/literatura/stati_dzh_lakoffa_ metafory_kotorymi_my_zhivem. - Загл. с экрана (Дата обращения: 31.01.2021).
- Лаптева М. П. Роль метафоры в историческом познании // Культурный код. - 2020. - № 3. -С. 30-37.
- Лутфуллин С. Нравственные обязанности мусульман. - Казань : КазПринт, 2017. - 52 с.
- Насыри К. Наставления повару. - Казань : Познание, 2015. - 92 с.
- Неклюдов С. Ю. Тело Москвы: к вопросу об образе «женщины-города» в русской литературе [Электронный ресурс]. - М., [2005]. - URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov20. htm. - Загл. с экрана (Дата обращения: 31.01.2021).
- Татарское народное творчество. Предания и легенды. - Казань : Татарское книжное издательство, 2015. - 383 с.
- Фукс К. Ф. Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях. - Казань : Познание, 2015. - 108 с.
- Яковлева Е. Л. Городская телесность как феномен бытия личности: опыт осмысления города Казани как тела // Балтийский гуманитарный журнал [Электронный ресурс]. - 2015. -№ 2 (11). - С. 24-28. - URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=23826976. - Загл. с экрана (Дата обращения: 31.01.2021).
- Яковлева Е. Л. Татарская кухня в контексте повседневности : учебное пособие с элементами хрестоматии [Электронный ресурс]. - Казань : Познание, 2019. - URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=41429128.- Загл. с экрана (Дата обращения: 31.01.2021).