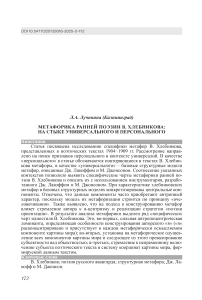Метафорика ранней поэзии В. Хлебникова: на стыке универсального и персонального
Автор: Л.А. Лучинина
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию специфики метафор В. Хлебникова, представленных в поэтических текстах 1904−1909 гг. Рассмотрение направлено на поиск признаков персонального в контексте универсалий. В качестве «персонального» в статье обозначаются повторяющиеся в текстах В. Хлебникова метафоры, в качестве «универсального» – базовые структурные модели метафор, описанные Дж. Лакоффом и М. Джонсоном. Соотнесение указанных контекстов позволило выявить специфические черты метафорики ранней поэзии В. Хлебникова и описать их с использованием инструментария, разработанного Дж. Лакоффом и М. Джонсоном. При характеристике хлебниковских метафор в базовых структурных моделях конкретизированы центральные компоненты. Отмечено, что данные компоненты часто приобретают антропный характер, поскольку модель их метафоризации строится по принципу «очеловечивания». Также выявлено, что на подход к конструированию метафор влияет стремление автора к я-центризму и реализации стратегии «поэзии ориентации». В результате анализа метафорики выделен ряд специфических черт идиостиля В. Хлебникова. Это, во-первых, сильная антропоцентрическая доминанта, определяющая особенности конструирования авторского «я» («я» расконцентрировано и присутствует в каждом метафорически осмысляемом компоненте картины мира); во-вторых, установка на метафорическое одушевление всех компонентов картины мира и следующее из этого превалирование субъектности над объектностью; в-третьих, стремление к непременному включению субъекта поэтического текста в систему координат картины мира, формируемой данным текстом.
В. Хлебников, поэзия русского авангарда, структурная метафора, Дж. Лакофф и М. Джонсон
Короткий адрес: https://sciup.org/149149386
IDR: 149149386 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-172
Текст научной статьи Метафорика ранней поэзии В. Хлебникова: на стыке универсального и персонального
Velimir Khlebnikov; poetry of the Russian avant-garde; structural metaphor; J. Lakoff and M. Johnson.
Изучение поэтических текстов традиционно направлено или на поиск литературных универсалий , или на выявление специфики поэтического языка и стиля отдельных авторов (литературных персоналий) . В первом случае исследование строится на анализе текстов разной природы или разного авторства и предполагает поиск общих закономерностей, универсальных текстообразующих механизмов. Эти исследовательские традиции получили активное развитие в классических литературоведческих работах Б.В. Томашевского, посвященных «жизни» тиражируемых в русской литературе поэтических приемов [Томашевский 1996, 203]; А. Ханзен-Леве, направленных на выявление общей для русской поэзии начала XX в. системы поэтических мотивов [Ханзен-Ле-ве 2003, 510]; Л.Я. Гинзбург, связанных с выявлением сходных ассоциаций в поэтических текстах [Гинзбург 1997, 331] и др. Они также продолжаются и в ряде современных исследований, объединенных темой поиска универсалий в литературе – в научных трудах П.К. Хогана [Hogan 1997], А.А. Фаустова [Фаустов 2011] и др.
Во втором случае фокус исследовательского внимания смещается на вопросы поэтики конкретного текста или совокупности текстов определенного автора, в центре изучения оказываются оригинальные механизмы организации текста, характерные для творческого метода исследуемого автора. В рамках настоящей статьи рассматриваются поэтические тексты В. Хлебникова, традиции исследования которых заложены в работах Р. Якобсона [Якобсон 1987], В.П. Григорьева [Григорьев 1983], Р.В. Дуганова [Дуганов 1990], А.Е. Парниса [Парнис 1996], Ж-К. Ланна [Ланн 2005] и др.
Вызовом для современного исследователя является необходимость совмещения описанных подходов, встраивание осмысленных ранее оригинальных авторских принципов организации текста в парадигму универсальных текстообразующих механизмов и наоборот – конкретизацию универсалий в приложении к текстам определенного автора. В настоящей статье отражена попытка соотнесения универсального и персонального. В качестве первого из указанных компонентов приняты базовые структурные модели метафор, в качестве второго – конкретные метафоры, представленные в ранних поэтических текстах В. Хлебникова. Подчеркнем, что в современном литературоведении уже предпринимались шаги к осмыслению метафорики В. Хлебникова в контексте культурных и поэтических архетипов (универсалий). В частности, в диссертационном исследовании А.А. Поповского рассматривается традиционное и новаторское в хлебниковских метафорах «органического роста», центральные компоненты которых (вода, камень, дерево и др.) значимы как для народной культуры (универсальная основа), так и для художественно-философской программы поэта [Поповский 2006, 5–6]. Подобным же образом Ж-К. Ланн определяет в качестве базовых концептуальных оснований метафоризации тела в поэзии В. Хлебникова идеи античной философии (универсалии) и оригинальные авторские мировоззренческие установки [Ланн 2005, 285]. Некоторые аспекты специфики со- / противопоставленности универсального и персонального в метафорах В. Хлебникова рассмотрены в работах А.В. Гарбуза [Гарбуз 1989], Б. Леннквист [Леннквист 1999], Е.А. Михалик [Михалик 2010] и др. Отметим, что в фокусе внимания указанных исследователей находятся лишь отдельные тексты и метафоры; в упомянутых работах описан ограниченный круг особенностей метафорики В. Хлебникова, обнаруживаемых при рассмотрении персонального в контексте универсалий. Представляется, что качественное развитие намеченной исследовательской траектории возможно при обращении к более широкому кругу текстов (в настоящей статье – это корпус ранних поэтических текстов В. Хлебникова) и привлечении нового аналитического инструментария из области изучения феноменов универсального (например, структурного метода описания метафор, используемого Дж. Лакоффом и М. Джонсоном). Реализация такого подхода позволяет сформировать комплексное представление об анализируемом материале, более четко верифицировать используемые в текстах механизмы метафоризации и выйти к пониманию репрезентированных через метафорику когнитивных оснований хлебниковской поэтической картины мира.
Онтологические метафоры
В ранних поэтических текстах В. Хлебникова наиболее распространены онтологические метафоры, связанные с «очеловечиванием» объекта или идеи. Особое внимание уделено метафорам, в которых «очеловечивается» компонент, связанный со сферой ментального, например: «неумь, разумь и безумь – три сестры плясали вместе» [Хлебников 2000, 47], «она живет с друзьями в мире, она слывет бездумья мать» [Хлебников 2000, 55], «Дочка, след ночей безумный! Иль вокруг чела бездумного Смертири вьюнок свили?» [Хлебников
2000, 46] и т.п. Конкретизируя в отношении текстов такого типа структурную модель метафоры «объект / идея – это человек» (ср. «инфляция – это человек») [Лакофф 2004, 60], «гора – это человек» [Лакофф 2004, 91]), обозначим следующий, распространенный в текстах Хлебникова, вариант модели: « часть человеческого сознания / бессознательного - это человек ». В данном случае авторское осмысление базовой структурной модели связано с конкретизацией ее первого компонента: в качестве объекта и одновременно с этим самоценной идеи рассматриваются психические процессы, характеристики сознания, концепты сферы ментального.
Другой вариант реализации данной модели представлен в текстах типа «я лесть без смысла» [Хлебников 2000, 19], «я – будизны залив немостынный, я – немизны пролив будостынный» [Хлебников 2000, 50], «я любоч жемчуж-ностей смеха, я любоч леунностей греха» [Хлебников 2000, 115], «не знаю, песнь каких немизн, но знаю четко – я не жизнь» [Хлебников 2000, 153] и т.д. Релевантным для этих и подобных текстов В. Хлебникова будет следующий вариант уточнения структурной модели рассматриваемой онтологической метафоры: « объект / идея - это конкретный человек (я) ». Распространенность такого типа метафор во многом определяется спецификой поэтико-философской концепции В. Хлебникова – взглядом на мир через человека как такового и с позиции конкретного человека. Антропоцентрический подход к конструированию текста подчиняется определенной поэтом цели: «увидеть чистыми глазами весь опыт в кругозоре человеческого разума» [Хлебников 2013, 1]. В этом контексте человек не сравнивается с объектом, идеей, образом, а приравнивается к нему. Все рассмотренные варианты реализации онтологической метафоры «объект / идея – это человек» могут быть описаны формулой Р. Якобсона: «метафора – параллелизм, сведенный к точке» [Якобсон 1987, 299]. В представленных метафорах одна точка не уподобляется другой, а отражается в ней, обнаруживая отношение равенства: «я есть (какая-то идея) / (какой-то объект)».
Рассмотренные онтологические метафоры и их структурные модели обнаруживают характерную для ранних поэтических текстов В. Хлебникова тенденцию к персонификации художественного образа. Картина мира поэта антропоцентрична и (в ряде случаев) Я-центрична. Субъект поэтического текста выступает не просто как сторонний наблюдатель, описывающий окружающий мир и обстоятельства, но как ось этого мира, на которую «нанизываются» остальные его компоненты. Осмысляя феномен я-центризма, М.Н. Эпштейн приходит к выводу, что «“я-центризм” <…> трудно преодолеть, но у Хлебникова, <…> лирическое «я» растворяется в чем-то или ком-то ином» [Эпштейн 2020, 8]. Я-центризм В. Хлебникова строится не на доминировании персонального авторского начала в тексте, но на постоянном его присутствии в различных формах – в качестве компонентов метафор в т. ч. Специфической чертой идиостиля В. Хлебникова в данной связи можно назвать плотность и вариативность конструирования авторского «я» в поэтических текстах.
Во многом этому подчиняется и организация онтологических метафор типа «явление – это сущность» (ср. «инфляция – это сущность» [Лакофф 2004, 50]), также достаточно широко распространенных в ранних поэтических текстах В. Хлебникова. Ср.: «И день восторгнулся, и день ужаснулся, и день восстает» [Хлебников 2000, 34], «и подлая тайная сила тебя наблюдала хотя» [Хлебников 2000, 62], «играли и журчали двузвонкие мечты» [Хлебников 2000, 87], «и миг поднял веселый молот» [Хлебников 2000, 162] и т. п. – точных сви- детельств «очеловечивания» явлений в данных текстах нет, однако можно отметить, что метафоризируемые компоненты (явления) здесь осмысляются не просто как сущность, а как сущность, способная к деятельности, свойственной к человеку, - проявлению восторга и ужаса, восстанию, наблюдению, игре. В попытке конкретизации структурной модели данной метафоры мы неизбежно придем к ее сближению с метафорой рассмотренного ранее типа: «явление -это человеческая / человекоподобная сущность» - сопоставимо с «идея -это человек». Очеловечивание и - шире - одушевление объектов окружающего мира является традиционным для русской поэзии приемом; специфичным же для идиостиля раннего В. Хлебникова в данной связи оказывается стремление к очеловечиванию не только объектов окружающего мира, имеющих физическое воплощение, но и нематериальных компонентов. Метафора выступает средством «оживления» как предметов, так и времени, сил, идей. В поэтических текстах обнаруживается стремление поэта к созданию оригинальной картины мира, лишенной авитализированных компонентов. В результате обозначается тенденция, связанная с превалированием субъектности над объектностью: в контекстах, где элементы картины мира, которые традиционно используются в поэзии в качестве объектов описания, становятся самостоятельными, оживленными / очеловеченными действующими субъектами.
Конструирование особой картины мира в ранних поэтических текстах В. Хлебникова строится также на основе онтологических метафор вместилища, типа «в зеленейности полей» [Хлебников 2000, 35] / «в тиховейности полей» [Хлебников 2000, 79], «в покрывальностях бездумий» [Хлебников 2000, 47], «в тумане грезобы» [Хлебников 2000, 87], «в грустилищах зари» [Хлебников 2000, 118], «в безраздумные хляби челнок унесло» [Хлебников 2000, 154]. Компонентом-вместилищем в структуре таких метафор у Хлебникова могут выступать как реальные (географические), так и метафизические пространства, что нашло отражение в следующих конкретизированных моделях метафор: « человек (и его сознание) - это вместилище природы (и - шире -мира) » и « природа - вместилище человека (как части природы) ». Отметим, что в данном случае при реализации метафоры В. Хлебников движется по пути, названном в когнитивной поэтике Р. Цура «поэзией ориентации» [Лозинская 2007, 102], - т.е. по пути осмысления места человека в мире, вписывания человека в действительность реальную и художественную. Это согласуется с отмеченной ранее тенденцией доминирования антропоцентризма в тексте -непременным присутствием человека в каждом из отдельных описываемых объектов и, в целом, осмысляемых фрагментов картины мира.
Ориентационные метафоры
Метафора вместилища во многом построена на осмыслении пространства и его специфики; на внимании к этой области метафоризации основаны и ориентационные метафоры. В ранних поэтических текстах В. Хлебникова основные структурные модели метафор такого типа не претерпевают серьезной трансформации и соответствуют базовой модели Дж. Лакоффа и М. Джонсона - «хорошее ориентировано наверх, плохое ориентировано вниз» [Лакофф 2004, 48], ср.: «земля уронила <= осуществила движение вниз> на лазурные воды небес в миг страдания» [Хлебников 2000, 13], «буду любимцем звезд <= компонентов пространства верха> ! Буду, балуя, править» [Хлебников 2000, 17], «сладок грех мне, сладко дно <= компонент пространства низа>» [Хлебни- ков 2000, 115], «свод синезначимой свободы – под круги солнечных ободий <= пространство верха>» [Хлебников 2000, 163], «дружен урод с подземельем <= пространством низа> , и любит высоты небесное тело» [Хлебников 2002, 13]. В отношении рассмотренного корпуса текстов нет возможности конкретизировать базовые структурные модели метафор. Однако можно отметить некоторые тенденции, связанные с их реализацией: в качестве метафоризируемых компонентов верха и низа В. Хлебников чаще выбирает архетипические для русской культуры образы – небесные светила, фрагменты подземного и подводного мира. Выбор и метафоризация указанных компонентов свидетельствует о высокой степени вовлеченности поэта в национальную культуру, а обнаруживаемое в текстах стремление к поэтическому присвоению и переосмыслению традиционных моделей метафор очерчивает перспективы формирования в зрелом творчестве В. Хлебникова оригинальной авторской картины мира со специфической системой пространственных координат, реализуемых через ориентационные метафоры.
Концептуальные метафоры
Наибольшее распространение в ранних поэтических текстах В. Хлебникова получили концептуальные метафоры, построенные по базовой структурной модели «идея – это объект» (ср.: «время – это деньги», «спор – это война», «жизнь – это путешествие» [Лакофф 2004, 11]), текстообразующие механизмы которой во многом соотносятся с механизмами, на которых базируются онтологические метафоры. Однако их принципиальным отличием является соотнесенность идеи не с антропным, а с иным образом и соответствующим ему объектом. Одним из наиболее частотных образов-компонентов концептуальных метафор в ранних стихотворениях В. Хлебникова является птица: «сидели птица гнева и птица любви. И опустилась на ветку птица спокойствия»» [Хлебников 2000, 14], «чайка доли иной зыблет купавой за думой» [Хлебников 2000, 69], «хитрая нега молчания <–> птица без древа звучания» [Хлебников 2000, 87], «какая-то птица шагая <…> раскрыла далекий клюв и половинками его замкнула свет и в свете том яснеют толпы мертвецов» [Хлебников 2002, 21], «тут тощий и скаредный лик <…> и его длинный язык по небу неба прилежной птицею летал, <…> суров» [Хлебников 2002, 25] и т. п. В соответствии с компонентами метафор в представленных примерах можем сформировать следующий вариант конкретизации структурной модели: « эмоционально окрашенная идея (эмоция) - это птица ». Традиция метафоризации образа птицы является одной из самых развитых в поэтических текстах В. Хлебникова, она берет свое начало от его первого стихотворения «Птичка в клетке» (1897 г.), в котором указанный образ также соотнесен с эмоционально окрашенной идеей. Последовательное движение по пути метафорического осмысления «птичьих» образов еще раз подтверждает мысль о вовлеченности поэта в контекст русской национальной культуры, для которой данные образы выступают как архетип, представленный в широком круге текстов. В то же время, по мнению Л.О. Зайонц, этот образ «можно отнести к области поэтической мифологизации Хлебникова <…> и птицы, и их пенье – все это сигнатуры хлебниковского творчества» [Зайонц 2012, 498]. Таким образом, птица , будучи архетипом (универсалией) русской культуры, становится одновременно и знаком персонального, выступая в качестве центрального компонента оригинально осмысляемых в творчестве В. Хлебникова концептуальных метафор.
Итак, на материале ранних текстов В. Хлебникова можно выделить ряд проявляющихся на уровне метафор специфических черт его идиостиля. Это, во-первых, сильная антропоцентрическая доминанта поэтического текста, диктующая особенности конструирования авторского «я» («я» расконцентри-ровано и присутствует в каждом метафорически осмысляемом компоненте картины мира); во-вторых, определяемая данной доминантой установка на метафорическое одушевление (очеловечивание) всех компонентов картины мира и следующее из этого превалирование субъектности (бытия данных оживленных субъектов) над объектностью (описанием авитализированных компонентов картины мира); в-третьих, стремление к реализации стратегии «поэзии ориентации», направленной на непременное включение субъекта поэтического текста в систему координат картины мира, формируемой данным текстом; в-четвертых, следование традициям обращения к архетипическим образам национальной культуры в ориентационных метафорах, продолжаемое их переосмыслением в оригинальных структурных моделях концептуальных метафор.
Обобщая представленные наблюдения, отметим соположенность двух тенденций, реализуемых в рассмотренном корпусе текстов: на уровне концептуальных и онтологических метафор раскрывается стремление В. Хлебникова к поиску собственных оригинальных вариантов реализации базовых метафорических моделей, а в области конструирования ориентационных метафор обнаруживается склонность к следованию сложившимся поэтическим традициям метафоризации пространства. Существование данных тенденций отражает включенность персоналии В. Хлебникова (и его текстов) в мир поэтических универсалий, описываемых посредством базовых структурных моделей метафор.