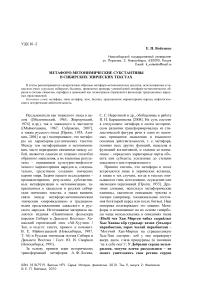Метафоро-метонимические субстантивы в сибирских эпических текстах
Автор: Войтенко Екатерина Петровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются синкретичные образные метафоро-метонимические средства, использованные в хакасском эпосе и русских сибирских былинах, приводятся примеры употреблений метафоро-метонимических образов в составе символов, перифраз и сравнений как иллюстрации отражений в фольклоре традиционных народных представлений.
Метафора, типы метафор, эпос, былина, традиционное мировоззрение народа, мифологическая и историческая действительность
Короткий адрес: https://sciup.org/14737236
IDR: 14737236 | УДК: 81-2
Текст научной статьи Метафоро-метонимические субстантивы в сибирских эпических текстах
Исследователи как тюркского эпоса в целом ([Мелетинский, 1963; Жирмунский, 1974] и др.), так и хакасского в частности ([Майногашева, 1967; Субракова, 2007], а также русского эпоса [Пропп, 1955; Аникин, 2004] и др.) подчеркивают, что метафоры не характерны для эпических текстов. Между тем метафоризация и метонимиза-ция, часто неразрывно связанные между собой, являются одними из главных способов образного мышления, а их языковые результаты - отражением культурно-мифологического мировоззрения народов и, следовательно, средствами создания эпических картин мира. Задачи нашего исследования -проанализировать результаты субстантивных метафоризации и метонимизации, закрепленных в хакасском и русских сибирских эпических текстах, а также выявить связи между метафоро-метонимическим эпическим «мировидением» и традиционными представлениями хакасского и русского народов. Источниками материала являются издания «Памятников фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»: Хакасский героический эпос «Ай-Хуучин» / Зап. и подгот. текста, примеч. и коммент. В. Е. Майногашевой (Новосибирск, 1997. Т. 16) и Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока / Сост. Ю. И. Смирнов (Новосибирск, 1991).
За основу примем идеи исторических трансформаций метафорик А. Ф. Лосева,
С. С. Неретиной и др., обобщенные в работе П. Н. Барышникова [2008]. Их суть состоит в следующем: метафора в своем историческом развитии трансформировалась из стилистической фигуры речи в один из основных принципов мышления и языкового освоения действительности, т. е. метафора, помимо всех других функций, наделена и функцией когнитивной, и главное ее назначение - определить характерные черты объекта или субъекта, усиленные до степени идеального или отрицательного.
Принято считать, что метафоры в эпосе встречаются лишь в лирических вставках, а также в тех случаях, когда в текстах описываются гнев, негодование, осуждение или насмешки персонажей [Пропп, 1955]. Другими словами, используя метафорические единицы, сказители описывали чувства и эмоции (например, эмоциональные состояния богатырей перед или после битвы). Наш материал подтверждает это мнение. Метафоры и возникавшие на их основе гиперболы чаще использовались в описаниях гнева ( Изебi чох Хан Мирген чабал сырайлыF Хыс Ханны кöр турадыр: хамах тÿнъдерл парыбысхан, харах чылай парыбысхан -‘Могучий Хан-Мирген на страшноликую Хыс-Хан смотрит: лоб у нее перевернут вверх дном, глаза прищурены (в значении ‘не в себе она’)’; У Добрыни сердце возъя-рилося, могучи плечи расходилися – не может уничтожить свое ретиво сердце
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 2: Филология
[Про Добрыню Никитича и отца его Никиту Романовича]; Бил Добрынюшка жону, учил Добрынюшка молоду. Раскипелось его сердце богатырское - спустил он ей кожу с головы до пят [Добрыня и Олеша]), печали ( Весма князь закручинился, повесил свою буйну голову [Василий Пьяница]); радости ( Паарынанъ сыххан палазы-на, паарап, паарсабысхан - ‘Своего родного (букв. из печени вышедшего) ребенка, прижимая к груди, приласкал [Хан-Мирген]’); и т. п.
Среди метафоризаторов, или субстанти-вов, обозначавших в своих исходных значениях реалии действительности, мы выявили 19 хакасских ЛСВ различной тематической отнесенности (натурфактной, артефактной, ментефактной, соматической и др.): аас ‘рот, уста’, ай ‘луна’, инънг ‘плечо’, кгстег ‘ржание’, намыт ‘нанос из ветвей’, от ‘огонь, очаг’, паар ‘печень’, пас ‘голова’, пораан ‘буран’, саFыс ‘ум, рассудок’, таF ‘гора’, талай ‘река’, тол ‘род, поколение’, тунук ‘дымовое отверстие’, хабырFа ‘ребро, бок’, хамах ‘лоб’, харах ‘глаз’, хас ‘край’, чаас ‘земля’. В русских текстах было обнаружено всего 7 ЛСВ, называющих только натурфакты ( туча, лес, ночь ) и соматизмы ( сердце, плечи, голова, ручки ) и входящих в состав глагольно-именных метафорических сочетаний (раскипелось сердце и др.). Русский сибирский материал подтверждает наблюдение В. Я. Проппа, писавшего о том, что метафоры для русских былинных текстов в целом не характерны.
Все выявленные нами русские и хакасские переносные субстантивные ЛСВ могут быть условно отнесены к следующим группам образных средств преимущественно синкретичного характера: собственно метафоры , метафоры-метонимии-символы, метафоры-метонимии-перифразы, метафоры-сравнения 1. Мы распределили ЛСВ по этим группам на основе характера отношений между прямым и переносным значениями слов, а также на основе некоторых особенностей реализации переносных ЛСВ в фольклорных текстах. Отметим, что приводимая ниже классификация хакасских единиц - лишь одна из первых попыток системно описать хакасскую эпическую метафорику, тесно связанную, как мы уже отме- тили, с метонимикой. Некоторые результаты классификации могут показаться спорными в связи с тем, что, во-первых, ЛСВ участвовали как компоненты в образовании фразеологических и перифрастических оборотов, а во-вторых, в фольклорную метафо-ризацию и метонимизацию вовлечена историко-мифологическая лексика.
Рассмотрим группы образных субстантивных средств метафоро-метонимической природы, использованных в хакасском и русских сибирских эпических текстах.
Собственно метафоры
В собственно метафорах дифференциальные признаки метафоризаторов часто включены в содержание метафорических значений производных ЛСВ или косвенно способствуют возникновению у слушателя / читателя функциональных и других ассоциаций 2. Значения прямых ЛСВ, вовлеченных в метафорический процесс и реализованных в эпических контекстах, соотносятся с естественной и социально-бытовой сферами, а сами единицы принадлежат к следующим лексико-семантическим группам:
-
1) наименованиям натурфактов и артефактов:
-
а) в составе хроматических и ахроматических портретных описаний эпических персонажей ( Аал саринанъ ат хулаFы азырайып, алын санъмайы чилтенънеп, тоFыс хулас сунныF, xaMaFUHda ай, чахсы хан позырах ат чахсы айлан сых киле-дiр - ‘Со стороны аала уши коня показались, у переднего виска его грива развивается, девяти саженей в длину, во лбу - звезда (букв. луна, месяц), достойнейший кроваворыжий конь, крутясь, идет’. Описания с использованием наименований небесных светил находим и в русских былинах: У меня [Дарьи Бродовишны] есть в утробе чадо милое, чадо милое, любимое: по колен у чада ноги в золоте, по локоть руки в серебре, во лбу солнце красное, во затылке светел месяц , а по косицам - частые звезды [Невольники на море]);
-
б) в составе количественных и / или гиперболических описаний (например, пира и «широкой» свадьбы: Халых, аймах чоны
хара намыт чыылFан, тоозылбастаF той пасталFан, yзiлбестег чырFал полFан -‘Народ, разный народ толпой (букв. наносом из ветвей) собрался, нескончаемая свадьба началась, большой пир пошел’; Хомай пÿдстiг Хыс Хан чоохтап турадыр: Артых той идерге аран пораан сабаанъ-ар! - ‘Худо сложенная Хыс-Хан говорит: Чтобы лучшую свадьбу сделать, давайте сильный буран поднимем!’; вражеской силы: Поднималась туча грозная, страшнею-щая со западу - и татарска и проклятская бусурманская [Старина про Тита]; Как от той було стороночки восточной подыма-лася туча богатая, туча грозная, гражь великая, - еще едет-то Тит, похваляется [Данилушко Игнатьевич и Тит]);
-
2) соматизмам и квазисоматизмам в составе описаний артефактов и физических реалий: ТоFыс аастыF хара сундуFын иреп-толFап асхан, ходырыбызып, Хыс Хан кизер кип сығырған, он iкi чарых тас мархалығ, тыннығ , ах хуус хуйах полған, ай пöрiзi саадах пирген, чааға чöрзе кизер салоолыF пбрiк пирген - ‘Большой сундук с девятью замками (букв. с девятью ртами), повертев-покрутив, открыла, порывшись, богатырка Хыс-Хан богатырскую одежду достала, с двенадцатью светлокаменными пуговицами живой (букв. имеющий душу, одушевленный), сделанный из сыромятной кожи белый панцирь достала, луновидный садак (колчан для стрел) дала, чтобы на войну богатырке идти, шапку с кистью дала’. См. также устойчивое фольклорное выражение с компонентом пас , образованное, видимо, также на основе метафорометонимического переноса: Ас пазы ас чiп, аарлазып одырыбысханнар, суғ пазы суғ вш - ‘Лучшее из еды они (Хан-Мирген и Хыс-Хан) ели ( пас - ‘голова’, букв. верхушки еды, самые сливки из всей еды), сидели, угощая друг друга, лучшее из питья пили (букв. самые сливки из всего питья)’. На наш взгляд, к результатам фразеологизации на основе метафоро-метонимического переноса, закрепившимся в литературном языке, относится и такая артефактно-соматическая бинарма: Харах оды хапхан чир харал си-илчададыр, харах оды хаппаан чир хара пыр тартылчададыр - ‘Земля, охваченная очагом глаза (букв. центром глаза, зрачками, или, просто, увиденная), покрывалась темнотой, земля, очагом глаза не охваченная (зрачками), черной пылью покрывалась’.
Результат метафоризации харах оды , реализованной в направлении из сферы «Предмет» в сферу «Физическая реалия», включен в состав более развернутого метонимического описания - «земля, охваченная глазом (центром глаза)», т. е. земля, находящаяся в пределах видимости. Семантически близко этому фразеологизированному выражению метафоро-метонимическая бинарма со значением ‘край глаза’: Хан Мирген алып кiзi харах хасча килiп, тоохтаан - ‘Богатырь Хан-Мирген, поднявшись на хребет до края глаза (т. е. пока можно увидеть), остановился’. Два именных метафоризатора очаг и край формируют близкие образы в описаниях пространства, охваченного зрительной перцепцией.
Для былин характерны гиперболические описания эмоциональных переживаний персонажей, причем метафорика сердца служит для характеристики преимущественно их отрицательных эмоций и чувств: У Добры-ни сердце возъярилося, могучи плечи расходилися - не может уничтожить свое ретиво сердце [Про Добрыню Никитича и отца его Никиту Романовича]; Бил Добры-нюшка жону, учил Добрынюшка молоду. Раскипелось его сердце богатырское -спустил он ей кожу с головы до пят [Доб-рыня и Олеша]; Богатырское сердце рас-сердилося, а могучие плечи расходилися, белые ручки размахалися [Добрыня Ми-китич и Змеище Тугарище]; Тут Суханьши ретиво сердце возъярилося, могучи плечи расходилися, бежал в силу Мамаеву, во дне бежал, во трое суточки [Суханьша За-мантьевич].
Как показал анализ материала, и хакасские и русские метафоризаторы участвуют в образовании метафор восприятия, количества и качества [Лукьянова, 1986]. Метафоры качества использованы в качественных характеристиках персонажей, и к ним относятся все единицы, рисующие физические и психологические образы. Такие метафоры возникали на основе следующих метафори-заторов: хакас. ЛСВ саFыс ‘ум’, хамах ‘лоб’, хабырFа ‘ребро, бок’; рус. ЛСВ сердце, плечи, ручки. Метафоры количества, или квантитативные метафоры («образы множеств» [Там же]), свидетельствуют о мере и степени проявления каких-либо признаков или действий и образовывались вследствие мены денотатов: хакас. аас ‘рот, пасть’ = замок (метафоризация реализовывалась в на- правлении из сферы «Животные» в сферу «Артефакты»), намыт ‘нанос из ветвей’ = толпа (в направлении из сферы «Натурфак-ты» в сферу «Человек» (общность людей); рус. туча, грязь (из сферы «Натурфакты» в сферу «Человек»). Такие метафоры сохраняют в своих значениях семы меры и степени. В метафорах восприятия (или ощущения) отражена информация об особенностях культурного развития народов, их мифологических мировоззрений. Поскольку, как отмечалось, эпическая метафорика неразрывно связана с эпической метонимикой, этот тип метафор соотносится и с другими синкретичными фактами языка фольклорных текстов: метафорами-метонимиями-символами, метафорами-метонимиями-пе-рифразами, метафорами-сравнениями. Рассмотрим эти группы.
Метафоры-метонимии-символы
Процессы эпических метафоризации и метонимизации были тесно связаны с процессами фольклорной символизации, и во многом благодаря ярким символическим образам историко-культурный опыт народа закрепился в фольклоре и языке. ЛСВ, обозначающие символы метафоро-метонимической природы, характерны для хакасского эпоса, но отсутствуют в исследуемых нами русских былинных текстах. Это обусловлено тем, что хакасская эпическая символика восходит к тотемическим, шаманистским представлениями, которые не могли повлиять на эпическую поэзию русских сибирских поселенцев. Так, к реалиям, ставшими символами оживления, воскресения богатырей в хакасском эпосе, можно отнести кукование кукушки коок , крики птицы сокола нарчын , «трехсуставную» белую траву, лежащую на дне озера ( ус пууныг ах от пар ). Наоборот, гибель символизировали: сломанная лука седла, разоренный народ и др. Святыми местами считались озеро - символический атрибут земного рая ( ах сут кол ‘белое молочное озеро’), священная береза с золотыми листьями ( алтын пурлiг пай ха-зынъ ) и др. Денотативная соотнесенность прямых ЛСВ, на основе которых формировались символы, следующая: соматизмы ( паар ‘печень’), артефакты ( от ‘очаг’), натурфакты ( чаас ‘земля’, кгстег ‘ржание’), социальные понятия ( тол ‘род, поколение’).
Рассмотрим хакасские символические ЛСВ по значениям, которые они выражают. Так, в создании эпической символики жизни участвовали следующие метафоры-метонимии: Паарынанъ сыххан палазына, паа-рап , паарсабысхан - ‘Своего родного (букв. из печени вышедшего) ребенка, прижимая к груди, приласкал [Хан-Мирген]’; Хыс Хан чачъазына хынмин турчададыр: «Чабал сырайлығ Хыс Хан чачъам, ха-раа-кÿнöрте узубин, öдiп, сығып чатчанъ, тикке ле нимес пу кирек. От алтында оғырлығ полған полар , оғыр тутпаза, олFан хайданъ полар?» - ‘О старшей сестре Хыс-Хан нехорошо подумал [Хан-Мирген]: «Старшая страшноликая сестра моя ни днем, ни ночью не знала сна, все уходила да уходила, неспроста это было. Под очагом вора держала , если вора не было, откуда взялось это дитя?»’; « Тас очыFы талалFанын , талFанныF кум то-олаанын кöрiп öлеп ме кöрбин öлем ме?!» - min толFалыбысхан - ‘«Неужели умру, не увидев, как каменный очаг ее будет разбит , как очаг будет развален», -говорила ящерица, извиваясь’. Эти контексты требуют пояснения. Дело в том, что у хакасов и других тюрков не сердце, а именно печень считалась органом, определяющим душевное состояние человека, поэтому в эпосе паар ‘печень’ символизирует оживление, возрождение богатырей к жизни. Согласно традиционным представлениям, даже зачатие ребенка происходит в паар . Паар -локум, где также «происходят душевные и моральные муки, сосредотачиваются сердечность, доброта и приветливость» [Бута-наев, Монгуш, 2005]. Символом же жизни, стабильности и благополучия считался от ‘огонь, очаг’, расположенный в центре юрты. Очаг, вокруг которого вращалась жизнь семьи, становился точкой отсчета времени и пространства, определением сторон света, а также символизировал преемственность поколений.
Символику гибели богатырей и надвигавшейся на народ опасности выражали в хакасском эпосе единицы, образованные на основе ЛСВ чаас ‘земля’, тол ‘род, поколение’, кгстег ‘ржание’: 1ди хыЙFылап турғанда изебi чох Ай Хуучъын, чаас ча-рылыбысхан, улгер узiлiбiскендег - ‘Когда могучая Ай-Хуучин так умничала (похвалялась), земля раскололась, звезды оборвались ’ (лексема чаас ‘земля’, восходившая к др.-тюрк. ‘бурый, темный’ [Майногашева, 1997. С. 446] и входящая в устойчивую фольклорную гиперболическую метафору чаас чарылыбысхан, улгер узiлiбiскендег, характерную только для фольклорных текстов); Алып тoлi узулгенде, аарлыF чур-тты талирға кирек, изер хазы сынғанда, илнiалны сурерге кирек - ‘[Ай-Хуучин говорит]: Когда богатырский род оборвется, дорогой чурт надо разрушить, когда лука седла сломается, народ, скот надо угнать’; Окк-чабысты пазынзар, кун чарыFы корбессер, кiстеде кун кбрiп чуртирзар -‘Если сироту беззащитную подавлять будете, солнечного дня вам не видать - дни ржаний будете переживать’, т. е. наступят времена, когда будут страдать все, даже лошади.
Метафоры-метонимии-перифразы
С метафорами-метонимиями-символами были тесно связаны метафоро-метонимические переносы, сопутствовавшие фольклорному перифразированию. При метафорометонимическом перифразировании лишь некоторые признаки метафоризаторов служили основанием для обозначения данными словами других денотатов, при этом сами прямые наименования в текстах отсутствовали. Метафоры-метонимии-перифразы характерны для хакасского эпоса и не свойственны русским сибирским былинам. Хакасские единицы связаны с мифологическими представлениями, отражают мифологическую картину мира и схематично обрисовывают эпическую реальность на основе бинарных оппозиций. Так, противопоставление Верхнего и Нижнего миров актуализируется в оппозиции алып ‘богатырь’ - айна ‘черт, дьявол’, и айна имеет особый метафоро-метонимический перифрастический изофункционал, ср., например, в: Иргектiге сиртетпенъер! - ‘Ловкому не давайте себя победить!’ (имеется в виду айна, букв. ‘имеющий большой палец’, и ‘ловкий’ в данном случае - субстантивированное прилагательное). Народ «иной» земли метафорически перифразируется следующим образом: Инънi пасха ил чирiне ирнiнъ чахсызы сых парган - ‘На землю народа с иным плечом достойнейший из мужей, поднявшись, въехал’. Предполагаем, что такое представление о жителях подземного мира связано с тем, что их внешний облик (телосложением или элементами одежды, например, оплечьями) обязательно должен был отличаться от внешнего облика обычных людей.
Изофункциональные обозначения миров в хакасском эпосе также могли быть перифразами с компонентами кун ‘солнце’, чир ‘земля’, тунук ‘дымовое отверстие’. Ср., например, упоминания о Подземном («закатном») и Верхнем («восходном») мирах: Аал тобыра парып, арFалыF сынны ас парFан кун йрЫн коре Кун Тонгк - ‘Хан Кюн-Тенгис-Хан через аал проехал, перешел за высокий хребет, бежал на закат солнца (т. е. в землю врагов)’; Кун CЫFЫЗЫH кöре, пура тарт килiп, чар полғанын чай-хабысхан, чазы пудына хамчъы сапхан -‘В сторону восхода солнца коня поворачивая, за повод дернул, оскаленный рот уздой рванул, по бедру с поле плетью ударил’. Выходы в Подземный или Верхний миры представлялись в виде дымового отверстия или дверей, например: Хара чирдiнъ тунугiне хамчъы сапхан Хан Мирген -‘Направляясь к дверям великой земли, плетью ударил Хан-Мирген’ (о способах интерпретации эпической действительности, построенной на основе метонимического перифразирования, мы писали в: [Войтенко, 2005; 2007]). По словарным данным, подобные метафоры-метонимии, участвовавшие в эпических символизации и перифразировании и выражавшие мифологические представления хакасов о мироустройстве, относятся к фразеологизированным [Хакасскорусский словарь, 2006].
Метафоры-сравнения
При метафоризации-сравнении метафо-ризатор изначально обозначал денотат, выступавший эталонным носителем опрелен-ного признака. Впоследствии инвариантные дифференциальные признаки метафориза-торов и метафор становились основанием для сближения разных денотатов: Поехал Михайлушко к силушке бессчетной, стал косить-рубить силушку бессчетную, вперед махнет - часты улички, назад махнет - переулочки, татар рубил, как лес клонил (см. гиперболические метафоры часты улочки, переулочки на основе развертки сравнения как лес клонил) [Данила Игнатьевич и его сын Михайло]. Аналогичный пример встречается и в кругу глаголь- ных метафор-сравнений: так, метафора темнеет «поддерживается» сравнением как темная ночь в описании негодования персонажа: Тугарин темнеет на Олешу как темная ночь [Алеша Попович и Змей Тугаретин]. И в русских былинах и в хакасском эпосе носителями эталонных признаков выступали натурфакты, но в эпосе они реализовывали особую мифологическую значимость (в частности, в описаниях эмоций): 1ди теенде Хан Мирген, изебi чох Хыс Хан та чiли Koo6ickeH, талай чiли таазыбысхан - ‘Когда так сказал Хан-Мирген, могучая Хыс-Хан, подобно горе, стала вспучиваться, подобно великой реке, стала бушевать’; Тозегинде чаFазы maF чiли кооп парFан - ‘Старшая сестра его горой вздулась’. Предпочтение в выборе подобных эталонов для сравнений было естественным для народа, жившего в окружении или у подножия округлых, как бы вспухших, вздутых гор, часто встречающихся в Саянах [Майногашева, 1997. С. 434], причем и гора и река в традиционных представлениях многих народов, не только тюркских, считались медиаторами Нижнего и Верхнего миров. В эпосе эталонные ландшафтные реалии могли «заволноваться», когда нарушалась связь между мирами (либо некто ее сознательно нарушал со стороны Нижнего мира, либо это происходило независимо от чьих бы то ни было действий со стороны Верхнего мира): Тинънер-мындар таста-зыбысалар, талай суу сaлFып турадыр, чирненъ тигiр пiрiк парыбысхан, чирдiнъ усту хара ноолген - ‘Когда друг друга туда-сюда бросают, вода в великой реке волнуется, земля с небом смешались, поверхность земли тьмою застлало’. Описания таких «волнений» использованы как прием психологического параллелизма и сопутствуют описаниям «волнения» эпических персонажей: так, богатырка Хыс-Хан «волнуется», негодует, возмущается, борясь с богатырем Ханом-Миргеном: Изебi чох Хыс Ханнанъ Хан Мирген урунызыбыс-хан. Таты maFa ахтарт турFандаF -‘С могучей Хыс-Хан схватился Хан-Мирген. Было похоже, как будто стоит гора перед горой’.
Таким образом, хотя в кругу исследователей и существует мнение о том, что метафоры не характерны в целом для эпических текстов, нам удалось выявить круг субстан-тивов, участвовавших в формировании ха- касских и русских синкретичных образных средств метафоро-метонимического образования. В целом процесс метафоризации охватывал наименования тех жизненных реалий, которые, с нашей точки зрения, были актуальными для создателей фольклорных текстов в ценностном отношении, так как обозначали основы мироздания, уклада жизни, верований и представлений (чаас ‘земля’, таг ‘гора’, талай ‘река’, тол ‘род, поколение’, паар ‘печень’ от ‘огонь, очаг’; сердце, голова и др.). Так, для хакасов важными были мифы о сотворении вселенной, о ее обитателях, тотемистические представления о духах и душе, но центром их метафорически описываемой ценностной эпической картины мира оставался человек как психическая сущность (это иллюстрируют многочисленные примеры из текстов). Важными для эпической картины мира были и представления о природе в целом и о природных явлениях, которые могли помочь или навредить эпическим героям. Хакасские метафоризаторы изначально соотносились с реалиями бытовой сферы и с областью ша-манистских суеверий и мифологических представлений, а русские метафоризаторы -с естественно-бытовой сферой. Скорее всего, это связано с тем, что в основе хакасского эпоса лежало мифологическо-символическое мировоззрение, а в основе русских сибирских былин - наивно-историческое сознание.