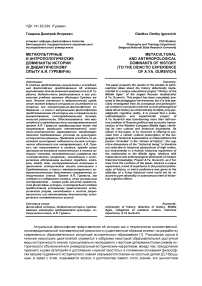Метакультурные и антропологические доминанты истории (к дидактическому опыту А.Я. Гуревича)
Автор: Гладков Дмитрий Игоревич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты исследований философских представлений об истории крупнейшего отечественного медиевиста А.Я. Гуревича, дидактически реализованных в его уникальном учебном проекте «История Средних веков». Вполне изученный в педагогической среде, этот проект впервые специально исследуется со стороны его концептуально-философского содержания - в связи с актуальными философскими представлениями об истории как о теоретически множественной, полипарадигмальной познавательной реальности. Обосновывается, что масштабный и методологически экспериментальный проект А.Я. Гуревича преобразовывал более чем полувековую традицию отечественной политико-экономической герменевтики западноевропейского Средневековья, уточняя ее культурно-исторические границы. Предлагая исходить из некоторой культурной заданности языков исторических объяснений или интерпретаций, А.Я. Гуревич, как показывается в статье, прежде всего принимал во внимание «включенного» в «поток истории» человека, познавательные измерения его «исторического существа», несводимые к историческим абстракциям высоких порядков, которые, между тем, инструментально возможны в целостном историческом опыте отношения к Средневековью, в связи с метакультурными и антропологическими доминатами современного исторического знания. Проект А.Я. Гуревича, как следует из содержания статьи, стал уникальным экспериментом - своего рода опытом практической философии истории, в котором было отдано предпочтение установкам практического исторического разума, несводимого к чистой рациональности или автономному достоинству исторических познавательных усилий.
Философия истории, дидактика истории, средневековье, категории средневековой культуры, исторический опыт, а.я. гуревич
Короткий адрес: https://sciup.org/149134757
IDR: 149134757 | УДК: 141.82:930.1Гуре6ич | DOI: 10.24158/fik.2020.3.4
Текст научной статьи Метакультурные и антропологические доминанты истории (к дидактическому опыту А.Я. Гуревича)
Актуальные философские представления об истории как о теоретически множественной, полипарадигмальной познавательной реальности существенным образом влияют на разработку современных образовательных концепций исторического образования [1]. Российская школа в течение нескольких десятилетий стремится к избранию некоторой образовательной доступной меры исторического знания, принципиально несводимого к жестким детерминистским схемам исторического объяснения или универсальным историческим нарративам; между тем, преодоление прежнего «шума категорий» и достижение «нужной простоты» в понимании оснований философски весьма подвижного исторического знания оказываются совсем не простым делом [2]. Насущным, в связи с этим, оказывается вопрос о достоинстве самого этого знания, его ценностном статусе в совокупной реальности современного образования. Ответы на этот вопрос часто имеют культурологическую окраску, они даются через уточнение истории как некоего национально-культурного познавательного образа; довольно интенсивными являются и попытки дидактико-антропологической центрации исторического знания (в связи с базовыми запросами человека на знание о себе) [3]. Тем самым проблематизуется философский строй исторического образования, ориентируемого не столько на понимание временной последовательности или каузальных детерминативов исторических событий, сколько на ценностно-смысловые, «жизненные» их начала.
Наиболее интенсивными оказываются поиски, которые ведутся применительно к философским представлениям об истории западноевропейского Средневековья: состояние источников, свидетельствующих о событиях того времени, и теоретический кругозор современной историографии Средних веков таков, что универсальные решения здесь оказываются невозможны, но вполне уместно применение различных познавательных стратегий; соответственно, из некоторого теоретического избытка «сумеречного опыта» [4] исторического знания возможны и различные философско-дидактические альтернативы продуктивного представления истории «инопланетного» [5, с. 8] Средневековья.
Своего рода дидактические постулаты понимания средневековой истории предлагают ее основательные популяризаторы С. Литвинов и А. Мартьянов: «главный постулат: сравнивать Средневековье с другими эпохами, и уж тем более с современностью, неэтично. Надо понимать, что после ухода в небытие античного мира варвары на развалинах поверженного Рима построили свою, уникальную и неповторимую цивилизацию, которая пускай и унаследовала многое от погибшей империи, но тем не менее не являлась ее прямой преемницей во всех сферах. Язык, культура, ментальность, образ мысли, религия, экономика - абсолютно все кардинально отличалось от Рима… Постулат второй, не менее важный. Ни в коем случае нельзя оценивать рассуждения, поступки и действия людей того времени с точки зрения человека XXI века. Усредненный обыватель, какой-нибудь бондарь Жак из Арраса, родившийся в 1300 году, внешне ничем не отличался от нас - две ноги, две руки, голова. Он, так же как и мы, ел хлеб, иногда с мясом, пил вино, растил детей, трудился, отдыхал. Однако тут есть существенное “но” - ознакомившись ближе с ходом его мыслительного процесса, устоявшимися и общепринятыми воззрениями на мироустройство и культурным кодом, мы пришли бы к однозначному выводу: перед нами инопланетянин, не имеющий вообще ничего общего с привычными нам людьми» [6, с. 8].
Среди концептуальных учебных проектов, посвященных западноевропейской средневековой истории, выделяется своей обстоятельностью и вместе с тем особой философской решительностью проект крупнейшего отечественного медиевиста А.Я. Гуревича, подготовленный и опубликованный им как учебник в сотрудничестве с Д.Э. Харитоновичем в середине 90-х гг. прошлого века [7]. Это издание не стало массовым; миллионными тиражами до недавнего времени издавался и применялся в образовательном процессе учебник Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского (первое издание вышло в 1962 г.; последнее - в 2012 г.) [8]. Именно он и был безусловным лидером на школьном уровне исторического образования (в части истории Средних веков) на протяжении 60-х - начала 90-х гг. ХХ в.; в 1974 году авторы были награждены Государственной премией СССР). «Учебник содержит разнообразные текстовые, картографические и иллюстративные материалы, представляет собой достаточно сложную, продуманную систему, активизирует пространственное и временное представление читателя. В нем объясняется смысл исторических терминов... В конце учебника приведен список художественной литературы», «интересны отрывки из подлинных документов Средневековья, имеющиеся в конце многих параграфов... Вопросы и задания, данные на полях страниц учебника, помогают ученику связать то, что он знает, с новым уроком, сформулировать своё отношение к изучаемым событиям. Богатый исторический материал способствует развитию мировоззрения школьников, повышает их эрудицию, расширяет словарный запас, учит бережно относиться к достижениям прошлого» [9] и т. д. Сами авторы полагали, что изучение истории Средних веков «открывает большие возможности для выяснения роли народных масс в развитии производства и культуры, в классовой борьбе против угнетателей и народно-освободительных движениях. Учащиеся убеждаются, что прогресс в развитии материального производства в Средние века был обусловлен большей свободой и хозяйственной самостоятельностью основного трудящегося класса - феодально-зависимых крестьян, которые в отличие от рабов в древности владели орудиями труда и постоянно их совершенствовали» [10, с. 4].
Но намеченная в проекте А.Я. Гуревича философия понимания западноевропейского средневековья стала общим теоретико-методологическим ориентиром, который так или иначе учитывался - уточнялся или, изредка, оспаривался - во всех последующих учебных разработках истории Средних веков вплоть до актуальных online текстов Н.И. Девятайкиной (первое издание -2007 г.) [11] и др.
Проект А.Я. Гуревича дидактически прерывал более чем полувековую традицию политикоэкономической герменевтики, директивно заданную еще ЦК ВКП (б) (постановление от 5.09.1931 г. «О начальной и средней школе»). Необходимость этой традиции обосновывалась «острой необходимостью в доброкачественных учебниках по истории для вузов, рабфаков и школ II ступени», в «хорошем марксистско-ленинском учебнике». Общество должно было «создать ударные бригады из историков-марксистов различных специальностей, используя для этого все наличные силы не только в Москве и Ленинграде, но и в провинции, поставив этим бригадам твердые задания, разработав с ними план учебников и обеспечив партийно-общественный контроль за идеологическим содержанием учебных пособий» [12, c. 206]. Откликом на это задание и была директива ЦК ВКП (б) по изданию «стабильных учебников, рассчитанных на применение их в течение большого ряда лет» (постановление «Об учебниках в начальной и средней школе» от 12.02.1933 г.) [13, c. 166–168].
В 1940 г. был издан учебник по истории Средних веков для VI–VII классов средней школы. Его авторами стали научные сотрудники Института истории Академии наук СССР под руководством академика Е. А. Косминского, который полагал, что «основная задача учебника – показать значение феодального периода как прогрессивной ступени в истории человечества по сравнению с античным рабством; передать, как в недрах феодализма зарождалась высшая ступень общественного развития в виде буржуазного строя, победившего в Европе в результате революций» [14, c. 4]. Не следует думать, что политико-экономические импликации здесь имели идеологически сервильный или сугубо внешний по отношению к истории Средних веков характер; напротив, учебник оказался насыщен конкретным историческим материалом и стал заметным объектом в серии учебных изданий по истории [15, c. 126]. Но верно и то, что вся философская конструкция учебника имела концептуально жесткий вид, была пронизана представлениями о средневековье как феодальной общественно-экономической формации, последовательно прогрессивной по сравнению с прежними – первобытнообщинной и рабовладельческой (античной). Концептуальная жесткость сохраняла историзм эпохи и даже усиливала его в определенном направлении: «феодальное средневековье… вело европейское, а за ним и внеевропейское человечество к капиталистическому строю, которому в свою очередь суждено было уступить место социализму... постепенно зреют – в силу роста производительных сил, общественного разделения труда, отделения города от деревни, развития новых форм эксплуатации – новые производственные отношения, новые классы – буржуазия и пролетариат, идет ожесточенная классовая борьба, завершающаяся эрой буржуазных революций, которая кладет конец господству феодального строя и вместе с тем – конец Средним векам» [16, c. 128].
Общие философские установки политико-экономической традиции понимания средневековой истории, в частности доверие к абстракциям высокого уровня, закрепляемым в реальности направленного политико-экономического понимания средневековой истории, сохраняются вплоть до нашего времени и наиболее отчетливо представлены в учебнике Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского. Именно эти установки и были прежде всего основательно оспорены А.Я. Гуревичем – как продуктивные, но и вполне условные, имеющие свои культурно-исторические познавательные альтернативы. Предлагая исходить из некоторой культурной заданности языков исторических объяснений или интерпретаций, А.Я. Гуревич принимал во внимание «включенного» в «поток истории» человека, познавательные измерения его «исторического существа». В этом потоке потребность осмыслить историю носит органический характер – это потребность самосознания, которое не может вырваться из-под гнета минувших лет, но и не может обойтись без вопроса о существовании человека, текучей, но все же рефлектируемой его жизненности, историчность которой проявляется через понимание совместности человеческого бытия («осознать свое место в жизни можно только сопоставляя себя с другими») [17, c. 6]. Познавательный исторический интерес лежит в основе различного рода объяснительных схем и повествовательных реконструкций истории. «Сменяющиеся поколения историков вновь и вновь обращаются к изучению тех периодов и событий прошлого, которые, казалось бы, с исчерпывающей полнотой были исследованы до них… Новые поколения находятся в другой точке невидимой линии, ведущей из прошлого к нашему времени, и из этой новой точки многое видится уже иначе, под другим углом зрения. Мы не отбрасываем все те знания, которые были накоплены нашими предшественниками, но осмысляем их в свете нового исторического опыта… Исторические памятники могут быть те же самые, которые изучались историками до нас, но вопросы, которые мы им задаем, постоянно обновляются, а на новые вопросы следуют новые ответы. Как видим, изучение прошлого начинается с современности: пытливый ум историка побуждает исторические памятники открывать перед нами свои тайны» [18, c. 6].
Антропологическое видение историка ограничивает теоретическую множественность исторического знания в некоторой установке на понимание его встречного характера – «изучение прошлого начинается с современности» но сама эта современность связана «невидимой линией, ведущей из прошлого к настоящему»; прежние понятия высоких уровней не отменены, а только релятивизированы в меру их культурно-смыслового соотнесения с целостным опытом исторического мышления. Сохранено общее понимание истории как тотальной временности (в когнитивной метафоре «потока»); универсалиям общественно-экономических формаций, феодализма и т. п. предпочитается понятие исторического опыта, который отливается в культурно-исторические категориальные формы. И именно эти формы стали предметом познания А.Я. Гуревича в течение десятилетий его исследовательской деятельности [19]. Ключевой здесь становится ничего не отменяющая, а только переориентирующая точку зрения на Средневековье «картина мира» – категория-метафора, отнюдь не современная [20], но позволяющая уточнить включенность историка в процесс созерцания ансамбля практик исторической самоидентификации человека Средневековья, которого, в узко-эмпирическом смысле, тоже ведь не было. «Каждый медиевист знает сегодня, что Средневековья никогда не существовало и тем более никогда не было духа Средневековья. Кому взбрело бы в голову сунуть в один мешок людей и учреждения VII, XI и XIV столетий? Чем более общий характер носит периодизация, тем более она спорна. Это не более чем тень, всего лишь слово, удобное для обозначения определенного хронологического пласта, но вкладывать в него еще какой-то смысл опасно, и не стоит обманываться этим словом» [21, c. 13].
В исследовании исторического прошлого для А.Я. Гуревича важны не предельные умозрительные, автономно-истинностные статусы категорий исторического мышления; сами эти категории являются подсобными, вспомогательными сооружениями мышления, которые обеспечивают работу исторического самосознания – исторического самоотчета людей в том, что является для них привычным и становится заметным для историка, постороннего для людей Средневековья, но в силу сплачивающей его с прошлым собственной человечности различающего их как понятия их опыта и его встречи с ним (такими категориями со-знания или со-понимания в общечеловеческом «потоке истории» становятся понятия страха и стыда, бедности, собственности и богатства, вины и права, смерти и т. д.).
Впрочем, и сам познавательный образ «исторического потока» не является довлеющим (как и связанные с ним категориальные конфигурации «исторического процесса», «развития» и т. п.); исторический опыт в работах А.Я. Гуревича часто предстает в понятиях пространства, природы в целом и т. п.; при этом сохраняется и стремление к конкретно-целостному пониманию самосознания средневековых людей, восприятия ими того, что теперь называется пространством или временем [22, c. 35]. Подлинна, неделима в конечном счете только человеческая индивидуальность; все формы культурно-исторического (в том числе познавательного) активизма дают себя знать как функционально зависимые от индивидуальности, всегда имеющей перед собою своего социального другого и «моделирующей» эти формы в их оптимальной коммуникативной семантике [23, c. 15]. Счастливой познавательной находкой тогда становится понятие ментальности, сличающей исторические индивидуальности и поэтому познавательно эффективной, «ядерной» для антропологически ориентированного исторического исследования [24]. Категория ментальности позволяет распознать «мощный пласт сознания, где коренятся его автоматизмы и привычки, исторически обусловленные способы интеллектуального и аффективного освоения мира, тот “духовный инструментарий”, при помощи которого люди расчленяют и организуют картину мира» [25, c. 98].
По слову А.П. Каждана, представленный в «Категориях средневековой культуры» «конкретный анализ социально-психологической атмосферы западного Cредневековья, основанный на разнообразнейших источниках (от исландских саг и варварских правд до богословских трактатов), составляет главную ценность книги, выводит ее за пределы культурологических рассуждений» [26, c. 310]. Представление историков-специалистов и широкой аудитории о простых людях, живших в то время, и поныне остается в значительной степени искаженным – прежде всего потому, что нам приходилось смотреть на них глазами образованной части средневекового общества: церкви, аристократии, зажиточных горожан [27, c. 7]. Будучи культурологически обусловленными, исследования А.Я. Гуревича никогда не ограничивались семантическим упорядочением культурных практик (к такого рода интеграции ближе учебный проект М.А. Бойцова и Р.М. Шукурова, изданный годом раньше учебника А.Я. Гуревича и Д.Э. Харитоновича) [28]. Характерен резкий отзыв Т.В. Осиповой: «Мы получили учебник, который учит не думать, а запоминать, не анализировать информацию, а усваивать некую сумму готовых знаний» [29]. Это полемическое ограничение намерений авторов, стремившихся к культурологической обстоятельности, отмечалось другими участниками дискуссии, состоявшейся после выхода учебника в свет:
«авторы много места отводят показу… простых людей с их повседневными заботами и интересами, трудовыми навыками и эмоциями, привычками сознания и бытом. В учебнике часто звучит голос современника событий или народной памяти в форме героического эпоса, монашеской хроники или сухого юридического документа. Все это позволяет юному читателю не только составить представление об основных событиях средневековой эпохи, но и почувствовать ее аромат и неповторимость, увидеть ее как особый мир человеческого существования [30, c. 378–379].
Предпринимается некоторое познавательное усилие по осознанию историчности, реинтеграции в некое открытое единство исторического опыта, несводимое к некоему культурологическому или антропологическому настоящему исторических интерпретаций. Не культурологическая (и не сугубо антропологическая) теоретическая заданность, а метакультурные и антропологические установки индивидуальной жизни средневековых людей важны как для исследований, так и для всей масштабной дидактики Средневековья, предложенной историком, и они могут быть отчасти высказаны и на «прошлом» концептуально-учебном языке.
***
Жанр учебника, который приняла философски насыщенная историческая дидактика А.Я. Гуревича, условен, «анахроничен»; он создает опору для исторически ориентированного мышления в самом его начале. Важно не создать избыточного комфорта – не подменить опорными, культуро-или антропологическими сведениями необходимый для учащегося труд встречного понимания с прошлым как со своим другим – дать возможность между прочим понять, что всякого рода исторические абстракции не могут заменить самой встречи с отзывчивой индивидуальностью людей прошлого в ее цивилизационной спаянности и неповторимости. Учебник и в самом деле аскетичен: разделенный на шесть содержательных частей, тридцать четыре главы и снабженный необходимым приложением (хронологической таблицей, словарем терминов, списком дополнительной художественной литературы), он избегает традиционного деления истории на социально-экономическую, политическую и культурную, создавая тем самым препятствия для методологической инерции образовательных программ. Иллюстрации и карты жестко графичны, выполнены в двуцветном (черно-белом) варианте; цветные иллюстрации – редкость; карты минимально информационны (только графика, общие названия, время создания и имя автора). Нет привычных параграфов; учебный текст не сопровожден историческими документами; контрольные вопросы мизерны (по три в среднем вопроса к частям глав); термины, выделенные специальным шрифтом, редки [31, c. 8]. Такой аскетизм не мог быть одобрен сообществом практикующих историков-учителей; он и не был к этому предназначен. Это был концептуальный дидактический манифест, целью которого было показать, что изучать историю по-старому невозможно. Второй частью этого манифеста стал «Словарь средневековой культуры» [32, c. 77], в котором концептуальные азы новой философии исторического понимания были представлены в азбучной последовательности.
Проект А.Я. Гуревича стал уникальным экспериментом – опытом практической философии истории, в котором было отдано предпочтение установкам практического исторического разума, несводимого к чистой рациональности или автономному достоинству исторических познавательных усилий. «Салютуя» [33] А.Я. Гуревичу четверть века спустя, можно заметить, что некогда «темное» Средневековье в этом проекте стало своего рода «зеркалом сочувствия» теоретически смятенному «последнему» человеку, все же преодолевающему «конец истории» [34], вновь «приобщающему себя к истории» [35, c. 8], к той памяти о себе в будущем, без которой он оказывается растерянным и разочарованным в неповторимом «миге» [36, c. 8] своего настоящего.
Ссылки:
Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович
Список литературы Метакультурные и антропологические доминанты истории (к дидактическому опыту А.Я. Гуревича)
- См.: Доманска Э. Философия истории после постмодернизма / пер. с анг. М.А. Кукарцевой. М., 2010. 400 с.
- Зарецкий Ю.П. Стратегии понимания прошлого. Теория, история, историография. М., 2011. 384 с.
- Сыров В.Н. Введение в философию истории: своеобразие исторической мысли. М., 2006. 248 c.
- Юсим М.А. Стратегии и сценарии, или что показывает зеркало (вместо рецензии) // Средние века. 2012. Т. 73. № 1-2. С. 375-385
- См.: Пастернак Б.Л. Волны [Электронный ресурс]. URL: https://rupoem.ru/pasternak/zdes-budet-vse.aspx (дата обращения: 20.01.2020)
- См.: Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира / пер. с фр. М., 1992. 351 с
- См.: Хайдеггер М. Время картины мира // Работы и размышления разных лет / пер. А.В. Михайлова. М., 1993. С. 135-167
- Гай Аноним. Вокруг апокалипсиса. Миф и антимиф Средних веков / под ред. А. Мартьянова, С. Литвинова. СПб., 2019. 512 с