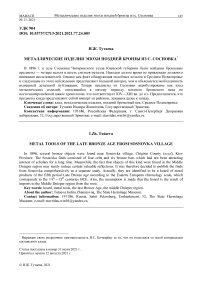Металлические изделия эпохи поздней бронзы из с. Сосновка
Автор: Тутаева И.Ж.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 13, 2021 года.
Бесплатный доступ
В 1896 г. в селе Сосновка Чигиринского уезда Киевской губернии были найдены бронзовые предметы - четыре кельта и шесть слитков металла. Находки долгое время не привлекали должного внимания исследователей. Однако сам факт обнаружения подобных кельтов в Среднем Поднепровье и следующие из этого наблюдения представляют большой интерес, чем и объясняется необходимость нынешней детальной публикации. Теперь предметы из Сосновки атрибутированы как клад металлических изделий, относящийся к пятому периоду позднего бронзового века по восточноевропейской шкале хронологии, что соответствует XIV-XIII вв. до н.э. Предполагается, что предметы клада представляют собой импорт из районов, лежащих далее к западу.
Клад, металлические изделия, поздний бронзовый век, среднее поднепровье
Короткий адрес: https://sciup.org/14123564
IDR: 14123564 | УДК: 904
Текст научной статьи Металлические изделия эпохи поздней бронзы из с. Сосновка
146 И.Ж. Тутаева МАИАСП № 13. 2021
В конце XIX в. в с. Сосновка1 Чигиринского уезда Киевской губернии были обнаружены бронзовые предметы (рис. 1). Сведения о них в литературе оказались крайне скудны. В основном это были публикации отдельных вещей или, максимум, нескольких предметов. Так, например, один из сосновских кельтов, наряду с другими яркими находками южной половины Восточной Европы, впервые опубликовал А.М. Тальгрен (Tallgren 1926: 181, fig. 105: 11 ). Почти век спустя В.А. Дергачёв составил и опубликовал обширный каталог топоров-кельтов с территории Карпато-Подунавья, куда вошли четыре кельта из с. Сосновки (Дергачёв 2010: 149, табл. 5: 61—64 ). Однако данные, которые были указаны в каталоге автора (№ 61—64) касательно условий находки и описания предметов, также были неполными.
В литературе полный комплекс предметов из Сосновки никогда не был опубликован, и, кроме того, исследователями не поднимались вопросы атрибуции, культурной принадлежности и важности такого рода изделий на территории Среднего Поднепровья. Поэтому кажется актуальным опубликовать данный комплекс заново в свете современных знаний археологии позднего бронзового века.
Главными источниками информации об этих предметах следует считать отчет ИАК и данные рукописного отдела Научного архива, хранящиеся в ИИМК РАН. В отчете ИАК за 1896 г. в разделе «Случайные находки и приобретения» указано, что в селе Сосновка Чигиринского уезда Киевской губернии были найдены «4 бронзовых одноручных кельта и 6 бесформенных бронзовых слитков» (Отчет ИАК 1898: 122). Позже отмечено, что из комиссии в 1898 году вещи были переданы в музей Киевского университета Святого Владимира (Отчет ИАК 1898: 238, 239), коллекции которого в советское время вошли в состав Киевского исторического музея (ныне Национальный музей истории Украины, г. Киев). Однако в отчете ИАК отсутствуют какие-либо данные об авторе и условиях нахождения древностей, а также в публикацию не были помещены их графические изображения.
Частично недостающие сведения удалось получить, обратившись к архивному фонду Археологической комиссии (Дело 104: Л. 1—8). В деле № 104 за 1896 г. в рапорте киевского губернатора от 31 мая 1896 г. сообщалось, что в Археологическую комиссию передается находка, «… состоящая из четырех металлических медных предметов, имеющих вид наконечников военного орудия кельтских времен и шести кусков такого же металла, образовавшихся, по-видимому, от разбитого какого-то сосуда, присовокупляя, что вещи эти, как доносит [чигиринский] исправник, найдены крестьянином с. Сосновки, Чигиринского уезда, Герасимом Гончаром на общественной земле» (Дело 104: Л. 1). Далее в переписке было указано, что находчик принес и передал вещи чигиринскому исправнику добровольно, за что был вознагражден комиссией в размере 10 руб. Также к делу приложена одна ч/б фотография, на которой изображены четыре близких по конфигурации кельта, два небольших бесформенных слитка и ещё два предмета, помещенных на тот же планшет, но не имеющих отношения к сосновским вещам (пряжка в виде головы оленя и каменный сверленый топор) (рис. 2). Таким образом, удалось получить изображение наиболее полного состава предметов из с. Сосновки (рис. 3).
В архивных материалах нигде прямо не указывается, что вещи из с. Сосновки были обнаружены в виде единого комплекса. Из документов следует только то, что они происходят из одного населенного пункта и были найдены одним человеком. Однако,
МАИАСП № 13. 2021
учитывая эти данные, а также состав находки, социальное положение находчика и каналы, по которым вещи попали в Археологическую комиссию, можно присоединиться к мнениям А.А. Спицына (Спицын. Бронзовый век) и В.С. Бочкарёва (высказано устно), что найденные в с. Сосновке предметы представляли собой клад металлических изделий.
А.А.Спицын в своих «корочках» (Спицын. Бронзовый век) неоднократно включал «Сосновку», т.е. сосновские предметы, в список кладовых находок Поднепровья. Сосновским изделиям посвящено две страницы его записей, где исследователь эскизно зарисовал один кельт и два слитка (Спицын. Бронзовый век: Л. 274—275). Здесь же, помимо ссылок на отчет ИАК и архивное дело, он отметил, что два экземпляра кельтов были « отлиты в одной литейной форме » (Спицын. Бронзовый век: Л. 274). Это важное наблюдение в дальнейшем подтвердится.
В конце 1960-х гг в Научном архиве ИИМК РАН В.С.Бочкарёву удалось обнаружить упоминание о сосновских вещах в личном архиве А.А.Иессена: рисунок одного кельта и краткое описание клада с указанием размеров (Иессен. Личный фонд)2. Помимо этого, уже в послевоенное время клад исследовался А.И. Тереножкиным в Киевском музее. Исследователь зафиксировал три кельта с пометкой «без паспорта»3. Сохранились его рисунки, которые впоследствии были переданы В.С. Бочкарёву. И уже он в дальнейшем смог идентифицировать беспаспортные предметы как сосновские.
Просмотр В.С. Бочкарёвым в начале 1970-х гг. уцелевших инвентарных книг быв. Киевского исторического музея не привел к положительным результатам. Никаких упоминаний о сосновском кладе он не нашел. Из чего можно сделать вывод, что вещи после войны были полностью депаспартизованы, а комплекс разобщен. Тогда же В.С. Бочкарёву удалось ознакомиться с обширной и разрозненной коллекцией древностей Киевского музея, среди которой были три кельта, происходящие из с. Сосновки. Исследователь сумел их зарисовать на месте4 (рис. 4: 1а, 2а, 3а ). Остальные предметы из сосновского клада, а именно: четвертый кельт и шесть слитков металла, в музее отыскать не удалось. На данный момент их следует считать утерянными. Описание клада даётся на основании всех изложенных выше материалов.
Итак, в состав сосновского клада входили 4 кельта, близких по конфигурациям и пропорциям, и 6 небольших слитков металла.
Кельт № 1 (рис. 4: 1 ). Инв. № А 211/16. Изделие имеет общую длину 12,5 см. Ширина лезвия составляет 4,3 см. Вес изделия 540—550 граммов. Внешний диаметр втулки около 4,7 × 3,8 см, внутренний (он же диаметр рукоятки) — 3,1 × 2,1 см. На обеих фасках в верхних частях арок четко фиксируются вытянуто-овальные углубления. Размер одной такой выемки занимает площадь 2,3 × 1 см. Арковидная фаска по контуру имеет тонкий едва заметный валик. Лезвие кельта сильно сбито, из-за чего его кромка имеет неровные очертания. По имеющимся данным сложно определить, было оно затуплено ещё в древности или же находчиком. По узким граням кельта четко фиксируются литейные швы. Глубина втулки варьирует от 4,1 см до 6,8 см. Эта разница вызвана литейным браком: при отливке кельта в двустворчатой литейной форме глиняный сердечник, вероятно, сдвинулся с места. Это повлекло за собой искажение очертаний втулки, а также препятствовало креплению изделия на древко. Однако, несмотря на такой существенный дефект, орудие имеет следы использования. Краевой валик, со стороны
МАИАСП № 13. 2021
которого заливался металл в форму, не поврежден. Но ушковое отверстие частично залито металлом, что следует рассматривать как незначительный литейный брак или, скорее, т.н. облой .
Кельт № 2 (рис. 4: 2 ). Инв. № А 211/15. Изделие имеет общую длину 12,5 см. Ширина лезвия составляет 4,2 см. Вес 470—480 граммов. Внешний диаметр втулки около 4,4 × 3,7 см, внутренний — 3 × 2,1 см. Глубина втулки 6,2 см. На верхних частях арковидных фасок четко фиксируются небольшие овальные углубления, по одному с каждой стороны. Размер таких выемок примерно 2 × 1 см, а глубина достигает порядка 0,4 см. Очертания обеих фасок обозначены тонким валиком, проходящим вдоль бортика выступающей арки. На узких гранях кельта четко фиксируются литейные швы. В нижней части тех же плоскостей прослеживаются следы проковки, формировавшие корпус изделия. Само лезвие кельта имеет следы заточки. Предмет имеет целый ряд литейных браков, одним из которых является наглухо залитое металлом ушковое отверстие. Сверху краевого валика, ближе к литейным швам, прослеживаются три усадочные (газовые) раковины. Это округлые пустоты в виде небольших вогнутых ямок на гладкой поверхности, образовавшиеся от тонких литниковых канальцев, через которые поступал металл в литейную форму. При кристаллизации металла и переходе его из раскаленного жидкого в охлажденное твердое состояние происходила усадка, в результате чего в местах открытых литников образовались подобного рода углубления. Помимо этого на лезвии изделия фиксируется множество зазубрин, которые косвенно указывают на то, что орудие было в употреблении.
Если сравнивать метрические параметры кельтов № 1 и 2, можно обнаружить целый ряд общих признаков. На это указывают одинаковая длина, ширина лезвия, ряд одних и тех же дефектов литья и т.д. Единственным существенным их отличием является вес изделий (550 vs 480 граммов). Весовые расхождения могут объясняться разницей в глубине втулок. Напомним, что у первого кельта втулка была перелита за счет литейного брака и поэтому имела меньшую глубину. У второго же кельта втулка отлита без существенных изъянов, поэтому количество металла на отливку было затрачено меньше по сравнению с первым кельтом. Исходя из вышесказанного, можно заключить, что оба кельта были отлиты в одной литейной форме. Эта же мысль высказывалась ранее А.А. Спицыным.
Кельт № 3 (рис. 4: 3 ). Инв. № А 211/14. Орудие имеет общую длину 11,4 см. Ширина лезвия достигает 3,9 см. Вес изделия 380 граммов. Внешний диаметр втулки 4 × 3,2 см, внутренний — 3,1 × 2,4 см. Глубина втулки 5,8 см. На фасках с двух сторон в верхних частях арок четко фиксируются вытянуто овальные углубления. Размер одной такой выемки занимает площадь 2 × 1,3 см. Однако на одной стороне в центре такого углубления располагается сквозное отверстие, размеры которого достигают 0,8 × 0,5 см (рис. 4: 3а ). Арочную фаску окаймляет тонкий валик. На узких гранях кельта фиксируются литейные швы. Нижние части этих плоскостей были подвержены ковке. Об этом свидетельствуют следы сплющенности литейных швов. Само лезвие заточено, имеет небольшой скос на одну сторону. Внутренняя втулка слегка недолита, но, несмотря на это, кельт был обработан и использовался по назначению. На краевом валике сверху фиксируются три небольшие литейные раковины, две из которых располагаются со стороны ушка. Отверстие ушка при литье получилось не полностью. Его размеры составляют всего 0,4 × 0,7 см.
Кельт № 4 5 (рис. 4: 4 ). Длина изделия составляет порядка 11,5 см. Внутренний диаметр втулки 3,2 × 2 см. Ширина лезвия 4,1 см. В верхней части арочной фаски фиксируется
МАИАСП № 13. 2021
углубление 2 × 1 см. По аналогии с предыдущими изделиями, надо полагать, с обратной стороны кельта на фаске имеется такая же выемка. Арочную фаску вдоль всего бортика окаймляет тонкий валик, доходящий до лезвия изделия. На краевом валике фиксируется, как минимум, одна заметная усадочная раковина небольших размеров. Ушковое отверстие у данного экземпляра получилось без существенных дефектов. Его диаметр составляет 1,2 × 0,7 см. Лезвие кельта обработано.
По внешнему облику, а также схожести пропорций и метрических параметров четвертый кельт аналогичен третьему, и как следствие, можно предположить, что оба были отлиты в одной литейной форме. Такая же идея высказывалась относительно первого и второго кельтов. Поэтому, если принять во внимание предположение, что все четыре кельта были отлиты всего в двух литейных формах, то это можно считать дополнительным свидетельством, что вещи из с. Сосновки действительно представляют собой единый комплекс.
Кроме кельтов в клад входили шесть кусочков металла от разбитых слитков. Но только для двух из них мы имеем изображения. Размер меньшего фрагмента (рис. 4: 5 ) составляет примерно 5,5 × 5,5 см, большего (рис. 4: 6 ) ~ 6 × 7 см. Весовые параметры отсутствуют. Оба фрагмента имеют неровные края и пористую поверхность.
Таким представляется состав клада из с. Сосновки. Наибольший интерес в нем вызывают однотипные рубящие орудия, которые в литературе получили название кельты рышештского типа (Черных 1976: 77—78, табл. VI: 1—9 ; Дергачёв 1997: 24; Дергачёв 2010: 34—46, табл. 1—7; Бочкарёв 2017: 192, № 63). Были названы так по эпонимному памятнику Рышешть (Râșești, Румыния). В румынской и ранней отечественной литературе он также известен как восточно-трансильванский тип. Для него характерны изделия с одним ушком, примыкающим к краю втулки, которую опоясывает хорошо выделенный валик. Широкие грани (т.н. фаски ) с обеих сторон изделия оформлены в виде арок, на которых в верхних частях закругленного свода располагаются вытянуто-овальные углубления или сквозные отверстия (т.н. «пещерки» ), по одному с каждой стороны. Корпус изделий стройный, слегка расширенный книзу. Лезвие почти прямое.
Исходя из археологических данных, куда входят прежде всего находки с поселенческих памятников и кладов, можно достаточно легко определить время и культурную принадлежность рассматриваемых кельтов. В число значимых следует отнести находки из кладов Рышешть, Христич, Гермэнешть, Курячьи Лозы, Новые Трояны, Кодрянка, Бецилово, Красный маяк, Антоновка, Баху и многие другие. По данным последних исследований эти вещи датируются V периодом (Бочкарёв 2017: 173—174, 192, № 63). Лишь единичные находки встречаются в более позднее время. В абсолютных датах это соответствует времени XIV—XIII вв. до н.э. Судя по находкам кельтов типа Рышешть в кладах и на поселениях культур Ноуа и, отчасти, Сабатиновка, их следует приурочить именно к этим археологическим культурам. Центр их производства, очевидно, находился между Карпатами и Днестром — там фиксируется наибольшее скопление находок (рис. 5).
Теперь рассмотрим более подробно кельты рышештского типа и культурноисторическую обстановку периода, когда они существовали. На фоне огромного разнообразия кельтов эпохи поздней бронзы Северного Причерноморья он является одним из самых многочисленных. Автору удалось учесть 131 экземпляр. Это количество включает в себя четыре негатива на литейных формах. Все они относятся к Красномаяцкому комплексу, который был случайно найден во время земляных работ в 1932 году (Черняков 1965: 100, 102, 104, 105, рис. 6: 5 , 8: 1—2, 5 ). Учитывая условия нахождения и состав самого комплекса, его
МАИАСП № 13. 2021
следует интерпретировать как клад. Других литейных форм для отливки кельтов рышештского типа пока неизвестно.
В общее количество изделий входят 67 кладовых находок, 8 изделий с поселенческих памятников, 21 случайная находка и ещё 35 экземпляров, условия нахождения которых остаются неизвестными (табл. 1). В процентном соотношении большое преимущество имеют находки в кладах — это более 50% от общего количества. Далее по степени уменьшения идут случайные находки (16%) и находки на поселениях (6,1%). В погребальных памятниках кельты типа Рышешть не фиксируются. Это объясняется тем, что положение металлического инвентаря в могилы в большинстве случаев не предусматривалось местными погребальными традициями.
Таблица 1. Распределение находок кельтов типа Рышешть по основным видам археологических памятников
|
Клады |
Единичные случайные находки |
Поселения |
Погребения |
Условия находки неизвестны |
Всего |
|
67 экз. |
21 экз. |
8 экз. |
— |
35 экз. |
131 экз. |
|
51,1% |
16% |
6,1% |
0% |
26,7% |
100% |
Если подвергнуть визуальному анализу кельты рышештского типа, то в первую очередь на себя обращают внимание их размеры. Общая длина колеблется в пределах от 8 до 13 см (табл. 2), а максимальная ширина лезвия может достигать 5 см. Такие габариты изделий по сравнению с близкими аналогиями из Нижнего и Среднего Подунавья и Северо-Западного Причерноморья позволяют относить эти кельты к достаточно крупным орудиям, вес которых мог достигать полукилограмма.
Таблица 2. Гистограмма распределения длин кельтов типа Рышешть

Что касается орнамента на кельтах, то он встречается крайне редко. Иногда он представлен в виде хомутика вокруг «пещерки» (Дергачёв 2010: табл. 2: 24 , 3: 38 , 4: 48 , 6: 75 , 7: 86, 88, 89 и др.), а иногда отходящими от края втулки вертикальными валиками, спускающимися вдоль узких граней корпуса кельта (Дергачёв 2010: табл. 1: 12 , 2: 25 , 3: 38 ). Остальные вариации элементов орнамента являются уникальными и, как следствие,
МАИАСП № 13. 2021
представлены единичными экземплярами (Дергачёв 2010: табл. 2: 20 , 6: 78 ). Таким элементам оформления принято приписывать декоративный характер.
Такую же функцию могли носить отверстия или углубления на арковидных фасках. Но, с другой стороны, наличие таких «пещерок» могло быть связано со спецификой изготовления изделий в литейных формах, т.е. непосредственно с технологией литья. Можно предположить, что перед заливкой для наилучшей фиксации глиняный сердечник, находясь внутри полой двустворчатой формы, специально подпирался небольшими выступами, которые на позитиве образовывали сквозные отверстия или углубления (рис. 6).
Однако нельзя отрицать обстоятельства, говорящие о том, что такие отверстия на фасках могли вовсе не играть большой роли в технологии изготовления кельтов с «пещеркой». Так, например, нередко можно встретить изделия, отверстие на которых располагается только с одной стороны арковидной фаски. Это притом, что фаска без отверстия не носит на себе каких-либо признаков литейного брака, при котором «пещерка» могла не получиться. В таком случае фиксация сердечника внутри кельта за счет одного выступа на негативе была бы невозможной. А это значит, его фиксировали другими способами, где подобные выступы и их количество не играли значительной роли. Косвенно это могут подтверждать изделия, на которых «пещерки» не удались при литье. Как результат, на их месте образовались небольшие углубления в отливке. Это говорит о том, что сердечник не примыкал плотно к выступам, но при этом формирование втулки в металле происходило без существенных дефектов.
В литературе существует сразу несколько точек зрения, для чего эти отверстия предназначались. Но подробно касаться этого вопроса мы не будем. Совершенно ясно одно — отверстия, которые получались на готовом изделии, создавались мастерами намеренно. С одной стороны, выступы на негативе в литейной форме действительно могли служить дополнительным фактором удерживания сердечника на нужной высоте, но только как вспомогательный элемент. Скорее всего, функционально они были предназначены не для этой цели. Следует отметить, что наличие подобных выемок, или, иначе, сквозных «пещерок», фиксируется сразу для нескольких типов безушковых кельтов Нижнего Подунавья и Восточного Прикарпатья (Дергачёв 2011: табл. 1—12, 14: 42, 46, 47 , 17: 1—8 , 21: 1 , 22: 8 ). Нельзя исключать, что такое специфическое оформление целой серии типов кельтов могло выступать в качестве местной особенности — т.е. являться отличительным элементом — литейного производства этих регионов.
Территория, которую занимают кельты рышештского типа, представляет собой довольно большое пространство. С помощью составленной карты удалось обозначить максимальную зону их распространения (рис. 5). Наиболее четко распределение по территории можно увидеть, если разбить общий ареал на географические зоны и посчитать процентное соотношение для каждого региона в отдельности (табл. 3). Так, например, юго-восточное Прикарпатье является абсолютным лидером среди всех территорий, включающим в себя почти половину всех известных находок (44,3%). Второе место среди регионов будет занимать правобережье Днепра (19,8%). На окраинах ареала — Трансильвания на западе и территория Левобережной Украины на востоке — концентрация кельтов будет самой незначительной (3,8% и 3% соответственно). Находки с территорий современных Болгарии, южной Румынии, Хорватии и Западной Украины были отнесены в категорию «других территорий», где кельты рышештского типа встречаются редко.
МАИАСП № 13. 2021
Таблица 3. Распределение находок кельтов типа Рышешть по территории
|
я я о я н я я ч ч Я я я % а Н |
о» я н я И Я ' о О я Д у Я В |
о я S ш в н ® я U § ^ В |
w V V V © в У 5 в |
а — | & 5 |
я а а ® |
и 5 у v 5 я S о “ S |
о я ч о ш Я О |
|
5 экз. |
58 экз. |
26 экз. |
15 экз. |
4 экз. |
10 экз. |
13 |
131 экз. |
|
3,8 % |
44,3 % |
19,8 % |
11,5 % |
3 % |
7,6 % |
9,9 % |
100% |
Из количественного анализа местонахождений кельтов типа Рышешть четко видно, что основная их концентрация находится между р. Сирет и Днестр (современные территории Молдавии и румынской Молдовы). Именно этот регион следует считать центром их производства и наиболее активного использования в местной археологической культуре, т.е. в культуре Ноуа. Наблюдается, что чем регионы располагаются дальше от этого центра, тем изделия представлены реже и в меньшем количестве. Так, например, в восточном направлении кельты достигают Северского Донца. Однако за Днепром известно только о трех таких находках (клады Орехово и Райгородка). К западу и югу от Карпат кельты рышештского типа также единичны. Там они встречаются как в кладах (Arcus, Augustin, Cetatea de Balta), так и в качестве случайных находок (Aninoasa, Câlnic, Cârlomănești, Naeni). Самой западной точкой является клад в восточной Хорватии — Полянцы—II, в состав которого входил фрагмент одного из интересующих нас кельтов (Hansen 1994: 570, taf. 28: 9 ).
Теперь хорошо видно, что территория юго-восточного Прикарпатья являлась главным производственным центром кельтов рышештского типа. В V периоде их изготовлением занимался местный так называемый рышештский очаг металлопроизводства, который базировался в пределах распространения культуры Ноуа (Дергачёв 1997: 45; Бочкарёв 2006: 58). По соседству с ней на востоке существовала сабатиновская культура, которую обслуживал красномаяцкий очаг металлопроизводства. Его мастера-литейщики производили металлические орудия для степной и лесостепной полосы правобережной зоны Поднепровья. Они тоже, пусть и в меньшем объеме, производили кельты рышештского типа. Что касается лесостепной зоны Правобережной Украины, то культурная принадлежность этих находок вызывает затруднения. В отечественной литературе некоторые авторы для этой территории выделяют так называемую тшинецко-комаровскую археологическую культуру (Березанская 1985a: 428—437; Березанская 1985b: 437—445; Лысенко 2012: 263—275 и др.). Но до конца остается неясным, могла ли эта территория самостоятельно изготовлять такие кельты. Находки с территорий современных Трансильвании, Болгарии, Хорватии и южной Румынии редки. Там они, если и производились, то в гораздо меньшем количестве, а некоторые из них и вовсе следует рассматривать как результат торговли или обмена.
Коротко отметим, что красномаяцкий очаг металлопроизводства в V периоде включал в себя как минимум две территориальные подгруппы — буго-днестровский регион и Нижнее Поднепровье (Бочкарёв 2017: 173, рис. 10). Они отличаются между собой индивидуальным набором типов металлических изделий. Обе эти территории следует рассматривать как локальные, местные центры металлопроизводства. Примечательно то, что они базировались только на привозном сырье, так как местных рудных месторождений для поддержания крупного производства в Северном Причерноморье не было. Как следствие, необходимо было налаживать торговые и экономические связи с соседними территориями для
МАИАСП № 13. 2021
организации поставок руды и металла. Поэтому тот факт, что красномаяцкий очаг всецело был подвержен большому влиянию со стороны соседнего карпато-балканского региона, вполне очевиден. Из двух территориальных подгрупп наибольшее влияние Карпато-Балкан испытывал на себе буго-днестровский регион. Вместе с сырьем он заимствовал и новые типы бронзовых изделий, которые же впоследствии стал самостоятельно производить (Красный Маяк). Такое влияние не могло не отразиться на общем облике местного металлопроизводства, которое теперь включало в себя не только изготовление оригинальных орудий и оружия, но и типов, заимствованных с соседних территорий. А именно: серпы типа Гермэнешть, Хелештень, кельты типа Негрешть, Рышешть, старшего трансильванского типа и т.д. Они являются яркими маркёрами археологических культур западных регионов V периода. Позднее кельты рышештского типа встречаются уже только в качестве исключений. Как минимум два таких кельта разной сохранности были обнаружены в райгородском кладе на Северском Донце (Лесков 1967: 159—161, рис. 9; Бочкарёв 2017: 174—176). Он целиком имеет ярко выраженное западное происхождение и датируется VI периодом6.
Здесь же стоит коснуться вопроса о происхождении сосновского клада, т.е. является ли он результатом местного производства или же был импортирован с других территорий, где изготовление такого рода изделий было поставлено на поток. Вероятно, ответ можно получить, обратившись к анализу весовых показателей. При рассмотрении этого параметра у целой серии кельтов оказалось, что предметы из сосновского клада — при массе 480—550 граммов — являются самыми тяжелыми из всех представителей рышештского типа и не только. Дело в том, что Поднепровье в позднем бронзовом веке, имея свои собственные центры металлопроизводства, изготовляло сразу несколько типов двуушковых кельтов, которые по своему исполнению были достаточно оригинальны. Например, для V периода к таким относится старшекардашинский тип кельтов. Но наряду с самостоятельными формами Поднепровье также производило типы металлических изделий, которые сочетали в себе разнотерриториальные признаки. К таким относится тип кельтов — условно назовем его днепрово-каменским, — насчитывающий пока только 11 экземпляров: Головятино, Витачев, Мельниковка, литейные формы из Высшетарасовки, Дудчан, Днепрово-Каменки и др. Специфика его состоит в том, что изделия, которыми он представлен, полностью повторяют типологические черты рышештского типа: арочная фаска с «пещеркой» в верхней части, примыкающее к краю втулки ушко, стройный корпус, прямое лезвие. При всем этом местные дериваты имели два принципиальных отличия от своих западных прототипов: два ушка вместо одного и вес 100—150 граммов. Такие небольшие по размерам и легкие по весу изделия были всегда характерны для Среднего Поднепровья эпохи поздней бронзы. Так как эта территория больше всего нуждалась в металле, дефицит сырья не мог не сказаться на габаритах металлических изделий. Это наблюдается на целом ряде изделий, наиболее характерными из которых являются серповидные орудия (Бочкарёв, Дергачёв 2002: 73—75, 93—97, 106) и кельты. При всем своем внешнем соответствии с другими типами как восточных волго-уральских, так и западных карпато-балканских регионов, изделия из Среднего Поднепровья всегда имели критично малый вес. В связи с вышеизложенным можно заключить, что клад из Сосновки не мог производиться мастерами на месте из-за отсутствия необходимого количества сырья. Вероятно, он был транспортирован в Среднее Поднепровье
МАИАСП № 13. 2021
с территории юго-восточного Прикарпатья, как ценный сырьевой клад, общим весом около/или свыше двух кг7.
То, что сосновские предметы представляют собой т.н. клад литейщика , подтверждает сам состав комплекса. Важное, в данном случае, значение будут иметь слитки металла в количестве шести штук. Само наличие их в кладе даёт возможность трактовать характер комплекса достаточно однозначно. По всей видимости, сосновский клад был депонирован в землю как ценное сырьё с целью вернуться к нему через время и использовать в дальнейшей переработке и отливке необходимых типов изделий. Однако по каким-то причинам этого не произошло.
В Северном Причерноморье клады, в состав которых входят слитки металла, не являются большой редкостью. Удалось учесть для V периода 22 таких комплекса. Всего же кладов металлических изделий для этого времени насчитывается порядка 72 (табл. 4).
Таблица 4. Распределение кладов металлических изделий и кладов со слитками по географическим регионам (V период)
|
Юговосточное Прикарпатье |
Правобережье Днепра |
Левобережье Днепра |
Общее количество |
% |
|
|
Всего |
49 |
19 |
4 |
72 |
100% |
|
Из них со слитками |
12 |
7 |
3 |
22 |
30,5% |
Бо́льшая часть кладовых находок, как ожидалось, была обнаружена в юго-восточном Прикарпатье — 49 кладов, что составляет 68% от общего количества. Из них 12 кладов включают в свой состав слитки металла. Может показаться, что это достаточно много, т.к. нигде восточнее такого количества кладов со слитками не фиксируется. Однако здесь стоит обратить внимание на пропорциональное соотношение общего количества кладов для каждого микро региона в отдельности с тем количеством депонированных комплексов, в состав которых входят слитки металла (табл. 5).
Таблица 5. Процентное количество кладов со слитками для каждого географического региона (V период)
|
Территория |
Кол-во кладов всего |
% |
Кол-во кладов со слитками |
% |
|
Юго-восточное Прикарпатье |
49 |
100% |
12 |
24,50% |
|
Правобережье Днепра |
17 |
100% |
7 |
41,20% |
|
Левобережье Днепра |
6 |
100% |
3 |
50% |
|
Итого |
72 |
22 |
Тенденция будет такова: чем дальше к востоку от современных территорий Молдавии и румынской Молдовы, тем чаще будут встречаться клады со слитками. Так, например, для юго-восточного Прикарпатья известно 24,5% комплексов, в состав которых входят слитки. В то время как для правобережной зоны Днепра эта цифра будет составлять уже 41,2%. Для
МАИАСП № 13. 2021
Левобережной Украины, несмотря на малое количество кладов V периода, уже 50% кладов будут иметь в своем составе слитки. Такая закономерность вполне объяснима тем, что чем дальше от источников сырья находится регион, тем экономней и бережливее будет отношение к металлу в целом. А значит, количество депонируемых комплексов с ценным сырьем на отдаленных территориях будет закономерно увеличиваться.
Распространение кладов металлических изделий и кладов со слитками Северного Причерноморья показано на карте (рис. 7).
Несмотря на достаточно убедительную аргументацию в пользу трактовки таких кладов, как сырьевых, нельзя исключать и возможность, что часть этих кладовых находок намеренно депонировалась в землю, как вотивы . Наличие слитков металла, в данном случае, не противоречит этой точке зрения, т.к. они тоже имели определенную ценность наравне с другими готовыми металлическими изделиями, и их могли также жертвовать богам бронзового века. Однако данный вариант интерпретации требует отдельного анализа и работы. И так как данная проблема выходит далеко за рамки поднятой темы, автор ограничиться только упоминанием о ней.
Список литературы Металлические изделия эпохи поздней бронзы из с. Сосновка
- Березанская С.С. 1985a. Комаровская культура. В: Телегин Д.Я. (отв. ред.). Археология Украинской ССР. Т. 1. Киев: Наукова думка, 428—437.
- Березанская С.С. 1985b. Восточнотшинецкая культура. В: Телегин Д.Я. (отв. ред.). Археология Украинской ССР. Т. 1. Киев: Наукова думка, 437—445.
- Бочкарёв В.С, Дергачёв В.А. 2002. Металлические серпы поздней бронзы Восточной Европы. Кишинев: Высшая антропологическая школа.
- Бочкарёв В.С. 2006. Северопонтийское металлопроизводство эпохи поздней бронзы. В: Савинов Д.Г. (отв. ред.). Производственные центры: источники, «дороги», ареал распространения. Материалы тематической научной конференции. Санкт-Петербург, 18—21 декабря 2006 г. Санкт-Петербург: Исторический факультет СПбГУ, 53—65.
- Бочкарёв В.С. 2017. Этапы развития металлопроизводства эпохи поздней бронзы на Юге Восточной Европы. Stratum plus 2, 159—204.
- Дело 104: НА ИИМК РАН. РО. Ф. 1. 1896 г. Д. 104.
- Дело о древних медных предметах, найденных в с. Сосновке, Чигиринского у., Киевской губ.
- Дело 299: НА ИИМК РАН. РО. Ф. 5. Д. 299. Спицын А.А. Бронзовый век Юга России.
- Дергачёв В.А. 1997. Металлические изделия. К проблеме генезиса культур раннего гальштата Карпато-Данубио-Нордпонтийского региона. Кишинев: Типография Академии наук.
- Дергачёв В.А. 2010. Топоры-кельты поздней бронзы Карпато-Подунавья. Вып. 1. Одноушковые кельты с арковидными фасками. Кишинев: Центральная типография.
- Дергачёв В.А. 2011. Топоры-кельты поздней бронзы Карпато-Подунавья. Вып. 2. Кельты и серпы Нижнего Подунавья. Кишинев: Центральная типография.
- Иессен. Личный фонд: НА ИИМК РАН. РО. Ф. 76. Иессен А.А. Личный фонд.
- Лесков А.М. 1967. О северо-причерноморском очаге металлообработки в эпоху поздней бронзы. В: Лесков А.М., Мерперт Н.Я. (отв. ред.). Памятники эпохи бронзы юга Европейской части СССР. Киев: Наукова думка, 143—178.
- Лысенко С.Д. 2012. Тшинецкий культурный круг и проблемы перехода к раннему железному веку в Северной Украине. Российский археологический ежегодник 2, 263—275.
- Отчет ИАК 1898: Отчет Императорской археологической комиссии за 1896 год. 1898. Санкт-Петербург: Типография главного управления уделов.
- Черных Е.Н. 1976. Древняя металлообработка на Юго-Западе СССР. Москва: Наука.
- Черняков И.Т. 1965. Красномаяцкий клад литейщика. СА 1, 87—123.
- Hansen S. 1994. Studien zu den Metalldeponierungen während der älteren Urnenfelderzeit zwischen Rhônetal und Karpatenbecken. Tl. 2. Bonn: Habelt (UPA. Bd. 21).
- Tallgren A.M. 1926. La Pontide prescythique apres l'introduction des métaux. Helsinki: K.F. Puromiehen Kirjapaino O.Y. (ESA II).