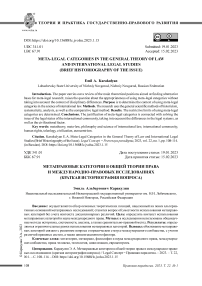Метаправовые категории в общей теории права и международно-правовых исследованиях (краткая историография вопроса)
Автор: Каракулян Эмиль Альбертович
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Теория и практика государственно-правового развития
Статья в выпуске: 1 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение: осуществляется обзор основных теоретических позиций, нацеленный на поиск альтернативных оснований метаправовых исследований; ставится вопрос об уместности использования метаправовых категорий без учета контекста дисциплинарных различий. Цель: определить контекст использования метаправовых категорий в науке международного права. Методы: в исследовании использованы общенаучные методы историзма, системности, анализа, а также сравнительно-правовой метод. Результаты: определяются ограничительные рамки использования метаправовых категорий. Выводы: обоснование метаправовых категорий связано с решением вопроса о юридическом статусе международного сообщества, с учетом различий правовых систем, а также цивилизационного фактора.
Метатеория, метаправо, философия и наука международного права, международное сообщество, права человека, телеология, цивилизация, евроцентризм
Короткий адрес: https://sciup.org/149142877
IDR: 149142877 | УДК: 341.01 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2023.1.15
Текст научной статьи Метаправовые категории в общей теории права и международно-правовых исследованиях (краткая историография вопроса)
Л ®
DOI:
В литературе не существует единых подходов к толкованию метаправовых категорий (далее – МК). В известном смысле, множественность концептуальных предложений отражает определенную стадию (по многим аспектам – начальную) в развитии общей теории вопроса. С другой стороны, терминологическая разноголосица может быть неизбежным следствием расширяющихся требований междисциплинарности, недостаточным их осмыслением и систематизацией. Данный обзор основных теоретических позиций нацелен на раскрытие доминирующего контекста и поиск альтернативных оснований использования МК, в содержании которых не будет места, прежде всего, для наблюдаемых коллизий общеправового и международно-правового подходов, а равно и для чрезмерной множественности толкований.
В контексте общей теории права
Рассматриваемая проблематика затрагивается в основном в рамках общей теории (и философии) внутригосударственного права. Так, Е.В. Алферова, ассоциируя анализ МК с пониманием феномена иррационального [1, с. 43], увязывает его с «возрождением» теории общественного договора. Последнее непосредственно связано, по нашему мнению, с необходимостью решения вопроса о роли и месте фикции в международно-правовых исследованиях в целом, порождая нераскрытую еще тематику относительно фикционного характера МК. К.Ф. Загоруйко, отмечая важность «сетевой» концепции права, наделяет категорию «метаправа» значением «служебного термина», который может быть «удобным для описания процессов модернизации права и поиска его сетевой сущности» [8, с. 25]. Л.В. Голоскоков понимает под этим «часть сетевого права», необходимого для «частичной автоматизации некоторых процессов правотворчества и правореализации», когда, например, метаправовая часть «позволяет непрерывно менять некоторые элементы отдельных норм права» [8, с. 25].
В.В. Шаханов различает «правовые метафеномены» философского и теоретического плана [16, с. 115], а также методы метатеоре-тического, теоретического и эмпирического уровней [17, с. 475]. «Метафеноменальный анализ» рассматривается им как «инновация в сфере методологии права» [17, с. 477], которая ведет к систематизации законодательных актов в соответствии с иерархическим пониманием целей, а само существование метанорм приводит к «наднормативному регулированию в правовой сфере» [17, с. 477]. С целью устранения неопределенности конструкции «метаюридичес-кий феномен» предлагается «использовать термин “метафеномены в праве” (или “правовые метафеномены”» [18, с. 30]. В целом «метафеномены философского уровня отражают переход от дискуссионности к мультипарадигмаль-ности, разнице в стиле мышления» [18, с. 30], а дискуссии о метафизике и догматике в праве, о соотношении философии права и теории права могут быть выведены в «иную плоскость... на базе концепции метафеноменов в праве» [18, с. 30], что позволяет, по его мнению, преодолеть ситуацию «терминологической хаотиза-ции», в которой оказались различные авторы («метатеория», «метаязык в праве», «метафизика права», «метаправо», «метаотрасль», «ме-татеоретический подход», «метанаучное средство», «метасистемное явление», «метаюриди-ческое понятие» и др.) [18, с. 31–32]. По В.П. Малахову, для обоснования «предела рационального развертывания предмета» наука «вынуждена... выходить за свои пределы», «т.е. обратиться к метанаучному уровню осмысления предмета» [16, с. 115]. Согласно С.З. Кимовой: «“Идеальное метаправо” – это идеальное законодательство и оптимальный правопорядок», естественное и позитивное (по Платону) [9, с. 60]. А.К. Черкашин увязывает мета-теоретический уровень (МТ) с методологическими исследованиями на основе диалектического метода и метода системного анализа, «в форме общей теории систем и логики» [15, с. 89]. Реализация данного уровня близка «к задачам герменевтики, но еще ближе к математической науке» [15, с. 89]. В результате основные вопросы права и связанных с ними отношений «представимы только на МТ-уровне герменевтического анализа символических формул дифференциальной геометрии» [15, с. 88].
По Е.А. Апольскому, основоположником «учения о правовой метатеории» является проф. В.Н. Протасов, утверждавший, что «следствием прогрессирующей теоретизации науки является формирование в ней нового “этажа” – метатеоретического уровня исследований, на котором происходит самоотраже-ние науки, ее самопознание» [3, с. 99]. Л.Г. Антипенко, рассуждая в контексте воображаемой («паранепротиворечивой») логики Н.А. Васильева (1880–1940), в рамках которой «метаправо» располагается вне поля правовых норм, увязывает МК со сферой «норм нравственного поведения», находящейся в отношении к первым в ситуации взаимодополнительнос-ти [2, с. 190]. Л.И. Лавдаренко и С.Н. Рудых, ссылаясь на А.М. Васильева, основывают свои рассуждения на понятии принципа, которое, будучи комплексным и «предельно» обобщенным, является «метаязыковым образованием» в отношении «классов понятий, первичных в рамках научной системы и не производных от иных понятий» [10, с. 197]. Это позволяет «рассматривать право как систему» не в простом суммировании подсистем, а как «новую системную конструкцию», функционирующую с учетом «самостоятельности множества центров принятия решений» ради «достижения верховенства права в социальной жизни» [10, с. 202].
Из подобной терминологической разноголосицы следует мысль о далеко не бесспорном содержании МК, в лучшем случае призванных «обозначать явления, не являющиеся правом» [10, с. 202], хотя и признается, что термины «правовая система», «метасистема права» в равной степени акцентируют на принципе системности [10, с. 200]. По мнению А.А. Головиной, под термином «метаправо» следует понимать внеправовой компонент правовой системы [6, с. 14]. Иными словами, МК говорят о метасистеме правовых систем. Ю.А. Веденеев делает еще более далеко идущий вывод: «интегральная юриспруденция» ассоциируется им с метатеорией, а «метаоснования» (права и его мифологии) «лежат в мире сверхъестественных сил» [5, с. 17].
В контекстемеждународно-правовых исследований
Рассматриваемые нарративы касаются в основном общей теории и методологии пра- ва. Литература относительно места МК в исследованиях по международному праву (далее – МП) не отличается таким многообразием и не столь обширна, а имеющиеся положения на этот счет, как правило, ведутся по аналогии с общей теорией права без учета принципиальной специфики международно-правовой сферы. При безоговорочном распространении МК на внутригосударственное и МП, последнее рискует, потеряв системное своеобразие, превратиться в некий вид (отрасль) внутреннего, что, разумеется, недопустимо. Каким бы ни был дифференцированным взгляд на содержание правовой метасистемы, риск доминирования одной системы права над другой не снимается, низводя последнюю до уровня подсистемы. Так, А.А. Бочков, Е.Ф. Ивашкевич утверждают, что «понятие правовой системы требует нового концептуально-терминологического наполнения в условиях изменения взаимодействия национального и международного права, создания нового, “живого”, современного “народного права”, “права второго модерна” (Т.Я. Хабриева), вселенского метаправа (Ю.А. Тихомиров)» [4, с. 54].
По мнению В.К. Самигуллина, «метаправо» отождествляется с «метаэтикой», что более удачно, хотя и необходимо придерживаться «понятия “метаправа” в смысле метатеории права» [13, с. 74], в основе которого – метафизика и идеализм [13, с. 76]. «Метаправо философично» и его объект реализуется «в общей теории права и государства», а предметом оказываются «взятые в мировом масштабе и в масштабе отдельных стран учения (взгляды, концепции, теории) о возникновении, становлении и развитии идеи права, взятого в разных ее видах, формах и проявлениях, а также в ее институционально-инструментальном воплощении» [13, с. 76]. Иными словами, с одной стороны, происходит смешение международного и внутригосударственного уровней, а с другой – подчеркиваются различия на уровне мировых политических центров: «в разрезе триады “Запад – Россия – Восток”» [13, с. 76]. При этом указывается, что все это «актуализирует вопросы методологического свойства, где много дискуссионного» [13, с. 76]. Кроме того, верно отмечается, что глобализация ведет к вестерниза- ции [13, с. 77], но каким образом возможно следовать принципу многообразия в теории метаправа, не уточняется. Хотя и допускается, что метатеория должна учитывать «достижения» теории и саму специфику МП, но связывается это странным образом с коллизионным методом [13, с. 78], который имеет место главным образом в международном частном праве. В конечном счете перспектива метаправа ассоциируется с некими метапринципами в рамках некоего «принципного права», как выражения «гуманистического права», которое, «аккумулируя в себе всю совокупность первосущностных императивов пер-восути права, действует в масштабе всей планеты и распространяет свое значение в равной степени на международное и внутригосударственное (национальное) право» [13, с. 74].
Подчеркнем, анализ места МК собственно в науке МП не приобрел должного и самостоятельного выражения, и если и происходит перенос внимания на международный уровень (в виде, тем не менее, амальгамы внутреннего и МП), то это, как правило, ассоциируется с понятием глобализации. Иными словами, наиболее используемые метаправовые категории не нацелены на выражение специфики МП, и если связаны с последним, то, преимущественно, в его глобализированной форме («в теории существует понятие “глобальная эволюция права”, под которым подразумевают явление метаправа, представляющего собой завершающую фазу правового развития эволюции права, которая определяет на самых масштабных уровнях истинную природу права» [19, с. 345]), или, например, в форме «энциклопедии права», объединяющего национальный и мультикультурный уровни некой единой «правовой цивилизации», где «право в условиях диалога культур выходит за рамки национальных правовых систем и выступает в качестве элемента наднациональной культуры цивилизма» [12, с. 105].
По нашему мнению, с одной стороны, подобное видение коррелируется с теорией глобального МП в рамках концепции «господства права» Х. Лаутерпахта, ведущей, так или иначе, к стиранию «интернационального» начала в МП. С другой стороны, подобная глобализация права связана с доминированием преимущественно правовых систем, испытав- ших в своем развитии влияние римского цивильного права, что неизбежно связано с игнорированием своеобразия иных цивилизаций. Кроме того, речь идет о цивилизации в единственном числе, и это не случайно связано с наднациональным характером унифицированного права и правопонимания. Таким образом, данные рассуждения вписываются в логику рассуждений с позиций одной, единственно возможной «цивилизации права», где иные становятся объектом господства, если не откровенно колониального захвата.
К другим эксцессам безграничной универсализации и глобализации МП в связи с развитием метаправового подхода можно отнести рассуждения о глобальной юридизации международного сообщества, способного приобрести статус юридического лица и соответствующую международную правосубъектность. Например, по мнению А.Ю. Пустоваловой, в рамках метаправа осуществлялась попытка разработки неких «правил общения с представителями внеземного разума». В этом ключе «метаправо» выступает доктриной, описывающей «отношения человечества с внеземными цивилизациями» [11, с. 492]. Условием этого утверждаются процессы «унификации и интеграции, в том числе и правовых систем», а «оформление норм и принципов международного права фактически стало “первой ласточкой” этого процесса» [11, с. 492]. Метапринципом такого понимания МП становится вселенский принцип равенства «земных и внеземных форм разумной жизни» [11, с. 492], общение с которыми должно быть, по идее автора, на основе категорического императива И. Канта. В конечном счете предлагается христианский принцип общения с иными цивилизациями, или «золотое правило метаправа: “поступай по отношению к другим так, как хочешь, чтобы поступали по отношению к тебе”», а «нормы метаправа должны строиться таким образом, чтобы не наносить ущерба иным цивилизациям» [11, с. 493]. Если «субъектами международного космического права выступают государства и, в некоторых случаях, международные организации», то, в рамках метаправа, «человечество... признается субъектом права, так как метаправо рассматривает общение с внеземной цивилизацией именно всего человечества в целом» [11, с. 493].
Существует и более дифференцированный подход, согласно которому противопоставляется правовая доктрина США, стремившихся односторонне управлять глобализацией (политика глобализма), и «истинная сущность международного права, как действенного и справедливого регулятора (метаправа)» [7, с. 34]. Согласно американо-центричному толкованию МП, инкорпорированному в национальную среду, «образование метаправа – завершающая фаза эволюции права, раскрывающаяся на планетарном и космическом уровнях», в результате чего формируется искаженное представление о МП, выступающем в качестве «проводника интересов и амбиций США» [7, с. 34]. Некой альтернативой этому выступает идея внутренней дифференциации глобалистского видения, согласно которой МП предстает «системой национальных прав... неразрывным и единым целым», что соответствует доктрине «“глобальной юриспруденции”, целью которой является, с одной стороны, “содействие” процессу универсализации и унификации права на глобальном и региональном уровнях, а с другой – стремление к сохранению “правовых основ национальной и локальной культуры”» [14, с. 125]. Отсюда возникает вопрос, насколько категория «глобального» вообще применима к МП, так как используется в совершенно различных значениях: либо выступает в качестве «фокуса» МП, либо ему противопоставляется в односторонней проекции. В любом случае, должным образом, если не вовсе, не решается вопрос о месте интернационального в структуре «глобального».
Выводы
Таким образом, уместность использования МК требует учета контекста дисциплинарных особенностей во избежание игнорирования специфики затрагиваемых систем права – международного и внутригосударственного. Вне подобных требований не принимается в расчет цивилизационный фактор, а также риск неправомерного распространения внутригосударственных предпочтений на международный уровень et vice versa. Кроме того, полноценное обоснование МК связано с решением вопроса о юридическом статусе между- народного сообщества, где эволюция становления первого (статуса) является неотъемлемым атрибутом взаимодействия конститутивных процессов, лежащих в основе второго.
Список литературы Метаправовые категории в общей теории права и международно-правовых исследованиях (краткая историография вопроса)
- Алферова, Е. В. 2008. 04. 011. Медушевс-кий А. Н. Размышления о современном российском конституционализме. - М.: РОССПЭН, 2007. -174 с. - (Россия в поисках себя...) / Е. В. Алферова // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4, Государство и право: реферативный журнал. - 2008. - № 4. -С. 42-43.
- Антипенко, Л. Г. Оценка этики П. А. Кропоткина в свете паранепротиворечивой (воображаемой) логики Васильева / Л. Г. Антипенко // Lex Russica. - 2016. - № 1 (110). - С. 186-190.
- Апольский, Е. А. Метатеория диссертационных государственно-правовых учений: актуализация проблемы / Е. А. Апольский // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. - 2017. - Т. 9, № 1. - С. 95-100.
- Бочков, А. А. Терминологическая и функциональная характеристика правовой системы / А. А. Бочков, Е. Ф. Ивашкевич // Национальная ассоциация ученых. - 2020. - № 53-2 (53). - С. 51-54.
- Веденеев, Ю. А. Юридическая наука: введение в концептуальную историю / Ю. А. Веденеев // Lex Russica. - 2017. - № 3 (124). - С. 9-28.
- Головина, А. А. Право и метаправо как компоненты правовой системы / А. А. Головина // Актуальные вопросы юриспруденции: сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-практ. конф. - Екатеринбург, 2015. - № 2. - С. 14-16.
- Железняк, А. В. Влияние однополярной глобализации на национальное право / А. В. Железняк // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2015. - № 11-7. - С. 33-35.
- Загоруйю,К. Ф. 2013. 04. 004. Голосююв Л. В. Теория сетевого права. - М.: МПСУ; Воронеж: МОДЭК, 2012. - 216 с. / К. Ф. Загоруйко // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4, Государство и право: рефера-тивныйжурнал. - 2013. - № 4. - С. 23-25.
- Кимова, С. З. Концептуальные подходы к исследованию прав и свобод человека / С. З. Кимо-ва // Вестник Забайкальского государственного университета. - 2012. - № 9. - С. 59-66.
- Лавдаренко, Л. И. Принципы права и их система / Л. И. Лавдаренко, С. Н. Рудых // Актуальные проблемы российского права. - 2018. -№ 10 (95). - С. 196-203.
- Пустовалова, А. Ю. Перспективы прогрессивного развития международного космического права / А. Ю. Пустовалова, В. В. Сафронов // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. -2015. - №2 (11). - C. 491-493.
- Ромашов, Р. А. Интегральная юриспруденция и энциклопедия права: историко-методологи-ческий анализ / Р. А. Ромашов // Правоведение. -2013. - № 3 (308). - C. 105-120.
- Самигуллин, В. К. Метаправо как нетривиальное исследовательское направление / В. К. Са-мигуллин // Проблемы востоковедения. - 2013. -№4 (62). - C. 74-78.
- Степаненко, Р. Ф. Тенденции развития права в условиях глобализации / Р. Ф. Степаненко, А. М. Савенков // Вестник ТИСБИ. - 2012. -№ 2. - С. 120-127.
- Черкашин, А. К. Метатеоретическое моделирование правовых норм и отношений / А. К. Черкашин // Мониторинг правоприменения. - 2020. -№ 3 (36). - С. 88-98.
- Шаханов, В. В. Горизонтальное и вертикальное структурирование элементов правовой системы как отражение ее метафеноменальности (к вопросу о понятийных рядах правовых категорий) / В. В. Шаханов // Правовая политика и правовая жизнь. - 2019. - № 2. - С. 114-119.
- Шаханов, В. В. Метафеноменальный анализ как инновация в сфере методологии права / В. В. Шаханов // Юридическая техника. - 2021. -№ 15. - С. 474-477.
- Шаханов, В. В. Метафеномены в праве: предназначение, критерии выделения, риски использования / В. В. Шаханов // Журнал российского права. -2019. - № 12. - С. 30-37. - DOI: 10.12737/jrl.2019.12.3
- Юркина, М. Р. Глобализация как требование современности / М. Р. Юркина // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. - 2014. - № 2 (5). - C. 344-347.