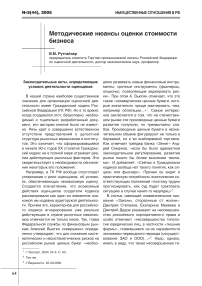Методические нюансы оценки стоимости бизнеса
Автор: Рутгайзер В.М.
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Оценка всех видов собственности
Статья в выпуске: 5 (44), 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/170151306
IDR: 170151306
Текст статьи Методические нюансы оценки стоимости бизнеса
В нашей стране наиболее существенное значение для организации оценочной деятельности имеет Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Но в то время, когда создавался этот, безусловно, необходимый и тщательно разработанный документ, его авторам многое было не известно. Речь идет о совершенно естественном отсутствии представлений о целостной структуре рыночных механизмов и институтов. Это означает, что сформировавшийся в начале 90-х годов ХХ столетия Гражданский кодекс не в полной мере отражает реалии действующих рыночных факторов. Это свидетельствует о необходимости обновления некоторых его положений.
Например, в ГК РФ вообще отсутствует упоминание о роли оценщиков, об условиях, обеспечивающих независимую оценку. Создается впечатление, что возможные действия оценщиков создатели кодекса рассматривали как один из элементов знакомой им издавна аудиторской деятельности. Причем это, характерное для российского кодекса игнорирование уже реально действующих в стране рыночных механизмов отмечается не только мною. Так, глава Федеральной службы по финансовым рынкам Алексей Вьюгин совершенно определенно утверждает, что для снижения систематических и несистематических рисков на российском рынке ценных бумаг «необхо- димо развивать новые финансовые инструменты: срочные инструменты (фьючерсы, опционы), позволяющие хеджировать риски». При этом А. Вьюгин отмечает, что это такие «коммерческие ценные бумаги, которые значительно проще эмитировать, чем, например облигации…»1. Самое интересное заключается в том, что на отечественном рынке эти производные ценные бумаги развитие получили, но чрезвычайно слабое. Производные ценные бумаги в незначительном объеме фигурируют не только в биржевой, но и во внебиржевой торговле. Как отмечает трейдер банка «Зенит» Андрей Смирнов, «если бы было адекватное законодательное регулирование, развитие рынка пошло бы более высокими темпами». И добавляет: «Сейчас в Гражданском кодексе вообще нет такого понятия, как опцион или фьючерс». Причем он видит и практическую потребность восполнения соответствующих положений «поэтому трудно прогнозировать, как суд будет трактовать ситуацию в случае каких-то неурядиц»2.
В статье, имеющей знаменательное название «Законы, оторванные от жизни», Дмитрий Степанов, Екатерина Макеева и Дмитрий Дедов указывают на несовершенство российского корпоративного права и особо отмечают «несовершенство типологии юридических лиц, в частности «лишние формы», появившиеся из-за неразвитости экономики переходного периода (сосуществование ЗАО и ООО)…»3. Надо, однако, иметь в виду, что такая несовершенная ти- пология юридических лиц была изначально задана ГК РФ. Именно в нем было установлено «сосуществование» закрытых акционерных обществ (ЗАО) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО) (статьи 87–94 и 97 ГК РФ соответственно).
Застывшие конструкции Гражданского кодекса Российской Федерации затрудняют концентрацию бизнеса, которая зачастую является одним из условий повышения его эффективности. Так, Дмитрий Степанов, работающий в группе по реформированию корпоративного законодательства России, отмечает: «...Следует недвусмысленно допустить так называемые смешанные формы реорганизации… в настоящее время, если собственник бизнеса желает присоединить одно или несколько ООО к АО, от него требуется сначала преобразовать ООО в АО, а затем присоединить возникшие в ходе преобразования АО к существующему АО. Эта проблема… требует законодательного урегулирования»4. Ясно, что без соответствующих изменений отдельных положений ГК РФ решить эту проблему невозможно.
Несколько месяцев назад я участвовал в подготовке материалов, касающихся роли оценщиков как обязательного элемента формирующейся рыночной инфраструктуры. Речь идет о статье 561 ГК РФ «Удостоверение состава продаваемого предприятия». В пункте 2 этой статьи сказано: «до подписания договора продажи предприятия должны быть составлены и рассмотрены сторонами … заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия…». От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) ее старшим вице-президентом, депутатом Государственной Думы Б.Н. Пастуховым предлагалось в пункте 2 слова «заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия» заменить словами «заключение независимого оценщика об оценке рыночной стоимости предприятия в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации». В конце марта 2005 года этот проект был полностью отвергнут. По моемому убеждению, эта проблема когда-нибудь обязательно возникнет вновь, поэтому рассмотрим аргументы «за» и «против» этой позиции. Вначале приведем аргументы в пользу сформулированных уточнений статьи 561 ГК РФ.
Во-первых, в силу специфики своей деятельности аудитор может дать заключение только о балансовой стоимости. Но эта информация совершенно безразлична покупателю предприятия. Ему нужно знать рыночную стоимость приобретаемого предприятия.
Во-вторых, аудитор, основываясь на пока действующей в России системе бухгалтерского учета, не может сформулировать правильное заключение о составе предприятия. Это объясняется следующим:
-
а) в бухгалтерской отчетности подавляющего большинства предприятий нет данных о стоимости используемых ими земельных участков. Более того, в составе утвержденных руководством Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) Положений о бухгалтерском учете, так называемых ПБУ, вообще нет документа о бухгалтерском учете земельных участков для того, чтобы зафиксировать их в составе предприятия. А раз этого нет, то аудитор не может составить разумное заключение о полном составе предприятия;
-
б) в бухгалтерских балансах большинства предприятий отсутствует достоверная информация о реальной ценности нематериальных активов;
-
в) стоимость основных фондов большинства предприятий фиксируется в бухгалтерских балансах по полной первоначальной оценке с учетом износа, т. е. без учета воздействия инфляции. Правда, в ПБУ-6 зафиксировано право предприятия самостоятельно проводить переоценку используемых им основных фондов. Но этим правом, согласно выборочным обследованиям, воспользовались 10–20 процентов предприятий, да и то не в полной мере.
Итак, аудитор располагает усеченной, неполной информацией о бухгалтерских балансах, поэтому он не может сформулиро- вать заключение о составе продаваемого предприятия исходя из интересов не только покупателя (который должен иметь как можно более полную информацию о том, что он покупает), но и продавца, заинтересованного в относительно более высоких ценах сделки. Иными словами, чем полнее представлен состав предприятия, тем большую сумму может выручить продавец в результате его продажи.
Отмечу еще и то обстоятельство, что в рамках слияний и поглощений, т. е. в ходе покупки предприятий, все большее значение приобретает Due Diligence. Этот англоязычный термин Леонид Никитин переводит как «дежурная предосторожность». «Как правило, – пишет Л. Никитин, – эта процедура заказывается компании – консультанту… покупателем бизнеса – ведь в его интересах узнать правду об объекте покупки еще до того момента, как сделка состоя-лась5». Ясно, что для возможного покупателя бизнеса особую важность имеет заключение независимого оценщика о рыночной, а вовсе не о балансовой стоимости, т. е. покупателю вовсе не нужна информация, которой располагает аудитор.
Необходимость согласования условий разных законодательных актов
Статья 158 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) «Особенности определения налоговой базы при реализации предприятия в целом как имущественного комплекса» является, можно сказать, отображением положений статьи 561 ГК РФ. Разработчики этой статьи, как мне кажется, были вынуждены следовать неуместным в настоящее время положениям статьи 561 ГК РФ. Этим и обусловлено появление следующих странных положений статьи 158 НК РФ:
-
а) за основу определения налоговой базы берется балансовая стоимость;
-
б) цена реализации предприятия сопоставляется с балансовой стоимостью, и таким образом устанавливается «поправочный коэффициент, рассчитанный как отно-
- шение цены реализации предприятия и балансовой стоимости»;
-
в) учитывая, что в статье 561 ГК РФ зафиксировано требование представления заключения аудитора о составе предприятия, в статье 158 НК РФ указывается на необходимость устанавливать балансовую стоимость каждого актива предприятия;
-
г) «для целей налогообложения цена каждого вида имущества принимается равной произведению его балансовой стоимости на поправочный коэффициент» (в скобках заметим, причем здесь «цена» актива? Ведь в статье речь идет о продаже предприятия целиком, а не отдельных активов). В составленном «сводном счете-фактуре цена каждого вида имущества принимается равной произведению его балансовой стоимости на поправочный коэффициент»;
-
д) «берется единая для всех активов ставка – 16,07 процента налоговой базы».
К чему приводит такой необычный порядок расчетов? – К неправильной характеристике так называемой «цены каждого актива проданного предприятия». Земельные участки, как отмечалось, не фигурируют в бухгалтерском балансе продаваемого предприятия. А рыночная цена или, как сказано в статье 158 НК РФ, «цена, по которой продано предприятие», естественно, учитывает и рыночную стоимость земельного участка. Отсюда разница между ценой продажи и балансовой стоимостью среди прочего отражает и неучтенные характеристики стоимости такого актива, как земля. Значит, эта разница, образовавшаяся, в частности, за счет участия земельных участков в составе продаваемого предприятия, находит отражение в «поправочном коэффициенте» а через него – в «цене» каждого актива. Это завышает цену всех учтенных активов на величину недооценки в бухгалтерской отчетности стоимости земельных участков, а следовательно, искажает состав продаваемого предприятия. И это искажение, узаконенное статьей 158 НК РФ, является прямым следствием неправильной ориентацией не на оценщиков, а на аудиторов (ст. 561 ГК РФ). Одно тянет за собой другое. Если бы разработчики статьи 158 НК РФ были бы свободны от ограничений статьи 561 ГК РФ, они конечно же не представили бы совершенно невероятную конструкцию установления «налоговой базы» по каждому активу проданного предприятия. Разумно было бы следовать оценкам рыночной стоимости предприятия, выполненного независимым оценщиком. Все равно он (оценщик) как бы за кадром, т. е. за статьей 158 НК РФ, участвует в реальной сделке купли-продажи предприятия. Надо отдавать отчет в том, что без его участия большая часть таких сделок никогда и не состоялось бы.
Отмечу другую несуразность, которая получается, если рассматривать разницу между ценой продажи предприятия и его балансовой стоимостью в качестве поправочного коэффициента. И это будет иллюстрацией второго примера рассогласования российских законодательных и нормативных актов, касающихся оценки стоимости бизнеса. Дело в том, что в Положении по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000), утвержденных Минфином России, дано определение так называемой деловой репутации. Там сказано: «Деловая репутация организации может определяться в виде разницы между покупной ценой организации… и стоимостью по бухгалтерскому балансу всех ее активов» 6. В зарубежной литературе деловая репутация называется «гудвил». Таким образом, разница между ценой реализации предприятия и его балансовой стоимостью рассматривается в качестве деловой репутации. Но в статье 158 НК РФ именно эта разница представляется в виде «поправочного коэффициента». С помощью этого поправочного коэффициента указанная разница, т. е., по существу, «деловая репутация» предприятия, распределяется среди всех учитываемых в балансе его активов7. Отсюда складывается несправедливая величина продаваемых активов как их величины балансовой стоимости плюс деловая репутация предприятия, прибавляемая к этой стоимости в зависимости от ее доли в общей сумме участвующих в балансе продаваемого предприятия активов. Выходит, что Налоговый кодекс полностью игнорирует оценку деловой репутации и рассматривает разницу между продажной ценой предприятия и его балансовой стоимостью не как особый вид активов предприятия – гудвил, а как сугубо статистическую характеристику. Эта характеристика отражает разницу цены реализации и балансовой стоимости активов, а потому должна быть распределена между ними. А как быть с деловой репутацией – гудви-лом8? А ее, согласно НК РФ, просто не существует. Она заменяется надуманным «поправочным коэффициентом».
Теперь рассмотрим аргументы «против» предложения депутата Государственной Думы Б.Н. Пастухова об ориентации в статье 561 ГК РФ не на аудитора, а на оценщика.
В отрицательном заключении, подписанном Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А. Жуковым от 30.11.2004 № 5534 П-П13, сказано: «отчет независимого оценщика об оценке рыночной стоимости предприятия не может иметь своей основной целью установление состава имущества, вовлекаемого в сдел- ку» (подчеркнуто мною – авт.). Непонятно, однако, как может оценщик представить рыночную стоимость предполагаемого предмета сделки – предприятия без «установления его состава». Разве можно определить рыночную стоимость предмета (в данном случае предприятия) без детального рассмотрения его состава?
Следующий аргумент, представленный А. Жуковым, имеет казуистический характер. Дело в том, что по закону об оценочной деятельности результат работы оценщика фиксируется в отчете, а в статье 561 ГК РФ говорится о заключении. «Надлежащим исполнением оценщиком своих обязанностей является своевременное составление и передача заказчику отчета об оценке объекта оценки, а не заключения об оценке». Но заключение, надо думать это понятно А. Жукову, можно сделать только на основании отчета.
Еще один аргумент А. Жукова – внесение предложенной А. Пастуховым поправки приведет к обязательности «проведения оценки подобного вида имущества» («продаваемого предприятия»). По моему мнению, это можно легко скорректировать указанием на то, что такое заключение следует представлять лишь в случае проведения обязательных оценок. Перечень таких случаев действительно указан в статье 8 закона об оценочной деятельности.
Пространное заключение относительно предложения депутата Государственной Думы Б.Н. Пастухова поступило от заместителя председателя совета Исследовательского центра частного права (государственное учреждение при Президенте Российской Федерации) Г.Е. Авилова 26 октября 2004 года. Свои возражения Г.Е. Авилов аргументирует тем, что в соответствии с законом аудитор «может проверять фактическое наличие любого имущества, учтенного в документах, касающееся финансово-хозяйственной деятельности юридического лица». Но дело в том, что в той документации (бухгалтерской отчетности), которую использует в своих расчетах аудитор, отсутствуют сведения о стоимости земельных участков, реально используемых предприятием. Оценить их стоимость «в составе предприятия», как это требуется в статье 561 ГК РФ, может только независимый оценщик. «Принятие норм, предусмотренных в проекте, – подчеркивает Г.Е. Авилов, – приведет к ущемлению интересов покупателя предприятия по сравнению с существующим порядком» (подчеркнуто мною – авт.). Я же уверен, что, напротив, поможет покупателю правильно ориентироваться в составе предприятия.
Странным кажется утверждение Г.А. Авилова о том, что «в каждом конкретном случае продажи предприятия его состав определяется продавцом и покупателем». Это не совсем так – состав предприятия не зависит от мнения на этот счет, скажем, покупателя. Состав предприятия фиксируется в соответствующих договорах, поэтому-то и требуется заключение третьей стороны о составе предприятия (согласно статье 561 ГК РФ такой стороной является аудитор, а депутатом Государственной Думы Б. Пастуховым предлагалось, чтобы ее представлял оценщик).
Не менее странным кажется и утверждение Г.Е. Авилова о том, что «в соответствии с бухгалтерскими документами экспертиза состава предприятия к оценочной деятельности не относится». В том то и дело, что, предлагая оценщику делать заключение о составе стоимости предприятия, Б.Н. Пастухов стремился выйти за рамки бухгалтерской отчетности, поскольку существующая бухгалтерия дает усеченную характеристику состава предприятия (без земельных участков). «Скорее всего, – добавляет Г.Е. Авилов, – Гражданский кодекс не предполагал введения обязательной оценки именно рыночной стоимости». Наверное, этот критик предложения депутата Государственной Думы считает, что ГК РФ «предполагал» обязательную оценку только балансовой стоимости. Но, повторим: при совершении сделок по продаже такая оценка никому не нужна.
Не совсем понятно и мнение Г.Е. Авилова о том, что «оценка имущества не является исключительной прерогативой оценщиков». Однако оценка имущества именно таковой и является, иначе оценочная деятель- ность не вошла бы в перечень лицензируемых видов деятельности. Приводимая ссылка на статью 52 «Об исполнительном производстве» Федерального закона от 21.07.1997 № 119-ФЗ представляется малоубедительной.
Третий пример рассогласования законодательных актов, связанных с игнорированием роли оценщиков в ГК РФ, проявляется в самом законе об оценочной деятельности. В свое время законодатели, корректируя этот закон, внесли странную, даже на слух, поправку в статью 7 «Предположение об установлении рыночной стоимости объекта оценки». Там сказано, что «в случае, если в нормативном акте… не определен конкретный вид стоимости объекта оценки, установлению подлежит рыночная стоимость данного объекта». И далее добавлено: «указанное правило подлежит применению и в случае использования в нормативном правовом акте… термина «действительная стоимость» (далее перечисляются другие варианты). Значит, действительная стоимость – это рыночная стоимость. Но здесь возникают два вопроса.
Первый, можно сказать, теоретический – почему в ГК РФ нельзя было, ориентируясь на указанное «предположение» (непонятно, однако, что это такое – «предположение»?), заменить термин «действительная стоимость» на термин «рыночная стоимость». В статье 93 ГК РФ «Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью к другому лицу» термин «действительная стоимость» упоминается дважды. В пункт 3 этой статьи сказано, что в конце концов после несостоявшихся отчуждений долей участника общества другим лицам «общество обязано выплатить участнику ее (доли – авт. ) действительную стоимостью…». Еще раз термин «действительная стоимость» упоминается в пункте 6 этой же статьи.
Почему нельзя было заменить понятие «действительная стоимость» на понятие «рыночная стоимость»? В гражданском законодательстве других стран не существует такого странного понятия, как действительная стоимость. Определение «действительная стоимость» относится к разговорному стилю, а потому не может быть использовано как юридическое понятие. Полагаю, такая терминология была введена потому, что законодатели, занимающиеся законом об оценке, реально отдавали себе отчет, насколько трудным, а точнее сказать, безнадежным было бы стремление заменить в ГК РФ бессодержательный термин «действительная стоимость» на признанный и в Международных стандартах финансовой отчетности, и в Международных стандартах оценки термин «рыночная стоимость». Последний хорошо раскрывается. А что касается трактовки понятия «действительная стоимость», думаю, вряд ли кто-нибудь возьмется за это абсолютно бесперспективное занятие. Глухая защита ГК РФ от каких-либо изменений – одно из «достижений» российской цивилистики.
Второй вопрос относительно термина «действительная стоимость» – сугубо практический. В статье 23 «Приобретение обществом (части доли) в Уставном капитале общества» закона об обществе с ограниченной ответственностью также говорится о действительной стоимости (повторим – это термин, утвердившийся в ГК РФ). И это понятно, поскольку указанная статья конкретизирует общее положение статьи 93 ГК РФ. Как же интерпретируется этот термин в гражданском законе? В пункте 5 статьи 23 утверждается, что при переходе доли к обществу «действительная стоимость» должна определяться «на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период». Это значит, что в комментируемом законе действительная стоимость рассматривается как балансовая стоимость.
Здесь проявляются два противоречия. Первое касается трактовки понятия «действительная стоимость» в законе об оценочной деятельности. Там, напомню, речь идет о принятии этого разговорного определения в качестве латентной характеристики рыночной стоимости. Второе противоречие касается закона об акционерных обществах. В статье 75 этого законе читаем: «выкуп акций обществом по требованию акционеров», т. е. в статье, по совокупности положений равнозначной статье 23 закона об обществах с ограниченной ответственностью, говорится не о «действительной» (по сути, балансовой) стоимости, а о рыночной стоимости. Вот как звучит пункт 3 статьи 75: «Выкуп акций обществом осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком…».
Это, казалось бы, малозаметное противоречие приводит к тому, что, когда проходят судебные процессы по иску тех, у кого за копейки приобретают их доли в обществах с ограниченной ответственностью, решения принимаются не в пользу истцов. «Пожалуйста, – говорят, – получите деньги за вашу долю в соответствии с ее балансовой стоимостью. И неважно, что сегодня она (доля) по рыночной стоимости стоит в 5–10 раз больше. В законе об обществах с ограниченной ответственностью четко и недвусмысленно сказано, что с вами, уважаемый истец, общество должно рассчитаться не по рыночной, а по балансовой стоимости.»
Упоминание о действительной стоимости, которая на самом деле оборачивается балансовой стоимостью, особенно неприемлемо в связи с неизбежным переходом на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Еще раз напомню: нет в МСФО такого понятия – «действительная стоимость».
Хочу сказать о том, что отдельные положения ГК РФ оказались неадекватными на практике. И эти положения должны быть скорректированы. Я уже представил одно такое положение. Другое положение касается увязки чистых активов компании и ее уставного капитала. Эта взаимосвязь отмечается в ГК РФ дважды – первый раз в статье 90 «Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью», второй – в статье 99 «Уставный капитал акционерного общества». Эти определения идентичны. Так, в пункте 4 статьи 90 сказано: «Если по окончании второго и каждого последующего финан- сового года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше уставного капитала,.. общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации».
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России), как сообщает газета «Ведомости», предлагает убрать эту увязку чистых активов с уставным капиталом. По утверждению корреспондента газеты Андрея Панова, ФСФР России считает, что «компании с отрицательными чистыми активами должны работать, не опасаясь угрозы ликвидации. Такая идея, – продолжает корреспондент, – изложена в концепции закона, подготовленного…. ФСФР Рос-сии9». «Однако, – добавляет корреспондент, – эксперты разошлись в оценке целесообразности этой меры». Тот, кто против отмены положения ГК РФ относительно контроля соотношения капитала и активов, утверждают следующее: «Во многом уставный капитал – это фикция. Но это хоть какая-то защита для кредиторов, издержки от которой не так велики, чтобы полностью ее снимать10».
На мой взгляд, это положение ГК РФ, сформулированное для защиты интересов кредиторов, нужно сохранить и в этом документе, и в законах об акционерных обществах и об обществах с ограниченной ответственностью, но в модифицированном виде. По моему мнению, чистые актив должны определяться исходя из оценки рыночной стоимости всех активов. Ведь большая часть этих активов, как правило, приходится на основные фонды. Они же суммируются в бухгалтерском балансе по полной первоначальной стоимости с учетом износа. Но эта характеристика стоимости не отражает инфляционных изменений. В то же время обязательства, например за- емный капитал, фиксируются в балансе по ценам близким к рыночным. Отсюда вероятность того, что чистые активы могут оказаться меньше уставного капитала. Нами предлагается сохранить формулы статей 90 и 99, но добавить одно важное положение, отражающее новые реалии: после слов «чистых активов общества» добавить следующее: «оцененных в рыночных ценах». Это означает, что в составе активов следует учесть и то, что сейчас не проходит по бухгалтерскому балансу – земельные участки, нематериальные активы, переоцененные в зависимости от инфляции основные фонды. Если этого не сделать и сохранить нынешнюю формулу, то, как констатирует вице-президент Общества защиты прав добровольных налогоплательщиков Александр Погригс, «это очень удобная норма для расправы с компанией в рамках закона11».
Отмечу, во избежание такого положения нередко компании – «охотники» (покупатели фирм целиком), на балансах которых приобретенные здания оценены «в копейку», вынуждены, «чтобы не возникало угрозы ликвидации, быстро проводить дорогостоящую переоценку [зда-ний]12». А такая ликвидация возможна в результате сопоставления чистых активов с уставным капиталом приобретенных фирм.
По существу, мы предлагаем проводить такую же переоценку, но только когда встает вопрос о возможности ликвидации общества. Такая оценка в рыночных ценах активов обществ должна проводиться в связи с предстоящим распространением в России МСФО. По сути, наше предложение о модификации статей 90 и 99 ГК РФ и внесении соответствующих изменений в законы об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью учитывает неизбежный переход к условиям МСФО.
Добавлю, что, возможно, надо сопоставлять с чистыми активами не только уставный капитал, но еще и так называемый добавочный капитал, отражающий, согласно ПБУ-6, результаты переоценки основных фондов. Как сказано в этом положении, «результаты… переоценки объектов основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно… Сумма дооценки… зачисляется в добавочный капитал организации…». Другими словами, речь идет о том, чтобы представлять общую сумму уставного капитала и добавочного капитала в сопоставлении с чистыми активами.
Я ни в коем случае не отрицаю роли Гражданского кодекса Российской Федерации, который, по утверждению авторитетных специалистов, является «своеобразным стержнем частного права. … ГК РФ объединяет общие нормы частного права и специальные нормы, регулирующие предпринимательскую деятель-ность13». Эта роль ГК РФ отражена в самом кодексе. Там сказано, что «нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать… кодексу».
Однако на деле получается следующее. Происходит весьма активное совершенствование законодательства, регулирующего российскую предпринимательскую деятельность. В связи с этим быстро развивается коммерческое право. «Такая высокая динамичность коммерческого законодательства как раз и является объяснением того, что оно развивается главным образом за пределами ГК РФ14». Ясно, что это приводит к разрыву развивающегося коммерческого права и величественно застывшего ГК РФ. Гражданский кодекс неизбежно превращается во все более отстающий от реальных жизненных процессов устаревающий свод норм частных и специальных норм, ориентированных на предпринима- тельскую деятельность. Нужны свежие струи в самом ГК РФ.15
Роль оценщиков в решении междисциплинарных проблем
На оценщиках лежит бремя решения весьма сложных междисциплинарных проблем. Я имею в виду предусмотренное законом об электроэнергетике государственное регулирование цен (тарифов) в электроэнергетике (ст. 23 этого закона). Почему я специально останавливаюсь на этой проблеме? Потому, что ее решение имеет непосредственное отношение к чрезвычайно важной в современных условиях проблеме оценки стоимости бизнеса предприятий, обладающих локальными монополиями, в частности предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В законе об электроэнергетике намечены основные условия достижения «баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической и тепловой энергии». Такой баланс интересов, с одной стороны, обеспечивает доступность этих видов энергии для потребителей, а с другой стороны, условием такого баланса является обеспечение, как сказано в законе, «экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала» при государственном регулировании цен монопольного действующего бизнеса.
Уровень же доходности инвестированного капитала нельзя оценить иначе, как на базе рыночной, а вовсе не балансовой стоимости. Прежде всего, это относится к статье 561 ГК РФ, с рассмотрения которой я и начал обсуждение проблемы согласованности в разных законодательных актах измерений стоимости бизнеса с позиций оценщиков.
В условиях рыночной экономики обоснование уровня доходности в электроэнергетике предполагает, что он (этот уровень) «должен быть сопоставим с уровнем доходности капитала, используемого в других отраслях промышленности со сравнимыми показателями предпринимательских рисков» (ст. 23 закона об электроэнергетике).
Это положение мне представляется особенно важным в отношении предприятий коммунального обслуживания, задачей которых является не только поставка потребителям электрической и тепловой энергии, но и другие виды коммунального обслуживания – вода, канализация, уборка мусора, ремонт и т. д. На мой взгляд, инвестиции в такого рода предприятия могут обеспечиваться только при одном условии: если их доходность будет примерно такой же, как и в других отраслях, и, как сказано в законе об электроэнергетике, «со сравнимыми показателями предпринимательских рисков». Отсюда следует, что реально правомерность установления цен на коммунальные услуги можно определить, если проведена разумная оценка рыночной стоимости используемых в отрасли активов.
Представим себе, что происходит приватизация какого-либо объекта коммунального хозяйства, т. е. продажа его целиком. Разве покупателя такого предприятия будет интересовать балансовая стоимость? Отнюдь нет. Ему нужно знать, какова рыночная стоимость его активов. Представление о рыночной стоимости активов коммунального предприятия необходимо и для государства. Ведь именно оно должно контролировать цены локальных монополистов. На состоявшемся в середине февраля 2005 года заседании Правительства Российской Федерации рассматривался и вопрос о неп- равомерно значительном росте цен на коммунальные услуги. В связи с этим Министр регионального развития Российской Федерации Владимир Яковлев предложил «аудит тарифов на жилищно-коммунальные услуги в нескольких регионах». Это, по его мнению, необходимо, «чтобы проверить обоснованность их повышения»16. Уверен, что такой аудит мало что даст, поскольку при его проведении не будут задействованы объективные критерии, и такие критерии не появятся до тех пор, пока не будет налажена оценка самими предприятиями доходности их капитала по рыночной стоимости. Поэтому мне представляется малооправданным стремление Министра регионального развития решить эту проблему сугубо административным методом – «выделить деньги на увеличение количества сотрудников и оборудования Федеральной службы государственной статистики, чтобы это ведомство снабдило Правительство истинной информацией о ЖКХ»17.
Меня особенно удивило то обстоятельство, что тогда же, но, правда, после заседания Правительства Российской Федерации Владимир Яковлев сделал, как сказано в отчете корреспондента, «сенсационное заявление». «По его словам, – пишет корреспондент, – в будущем году (т. е. в 2006-м – авт.) в сфере жилищно-коммунальных услуг может быть проведена монетизация льгот»18. По моему убеждению, такую монетизацию надо тщательно подготовить. И, как мне кажется, подготовку нужно начать с перехода в первую очередь предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса на бухгалтерский учет по Международным стандартам финансового учета (МСФО). Это, помимо всего прочего, предполагает разработку отраслевых методик оценки рыночной стоимости активов предприятий, что могут сделать только оценщики. Без этого в ЖКХ монетизация вряд ли окажется полезной.
Влияние МСФО на условия организации оценочной деятельности в России
Прежде всего, следует отметить, что в печати появились предложения о необходимости растянуть процесс перехода на МСФО до 2010 года.19 Это связано с рядом причин.
-
1. Пока нет официальной версии МСФО на русском языке.
-
2. По мнению члена бюджетного комитета Государственной Думы Евгения Иванова, «знакомых с МСФО специалистов пока 100–200 на всю страну, и заставлять предприятия внедрять международные стандарты в кратчайшие сроки не стоит20».
-
3. Движение принятого в 1-м и 2-м чтениях законопроекта об условиях внедрения МСФО застопорилось. По мнению Натальи Бурыкиной, председателя Налогового подкомитета Государственной Думы, «перспективы (на третье чтение) у этого законопроекта не просматриваются»21.
-
4. Переход на МСФО не всегда желателен для самих предприятий, поскольку «сулит им только дополнительные неприятнос-ти»22. Большинство компаний, уже перешедших на МСФО, показывают в новой бухгалтерской отчетности «бoльшую прибыль, чем по российской отчетности». Руководители этих компаний опасаются что «налоговики исходя из этого смогут доначислять налоги»23.
-
5. Переход на МСФО требует от предприятий дополнительных затрат.
-
6. Отмечается низкий уровень подготовленности к восприятию МСФО. Согласно исследованию Romir Monitoring из 3 019 опрошенных бухгалтеров, преподавателей бухучета и их студентов почти половина (48 %) «ничего не знает»24 о МСФО.
-
7. Чрезвычайно слабо развита учебная база подготовки специалистов по МСФО. Существующие учебные центры с трудом набирают по 10–15 человек один раз в 2 месяца «а то и реже»25.
И тем не менее внедрение МСФО постепенно происходит. В конце 2004 года в России насчитывалось 1 367 ОАО, чьи акции котировались на биржах. Все эти общества ведут бухгалтерский учет в соответствии с МСФО. Международные стандарты финансовой отчетности уже введены для банков. Правда, здесь не совсем ясна роль аудиторов. Должны ли они наряду с отчетностью по еще действующим российским стандартам заверять отчетность и по МСФО? Например, банки пока представляют и ту и другую отчетности.
В редакционной статье газеты «Ведомости» «Сумма рисков» читаем: «Принудительное введение новых стандартов оказывается профанацией во всех случаях, когда банки сами не хотят играть в открытую» и далее: «административное внедрение МСФО среди российских компаний на фоне отсутствия стимулов и открытости и технических трудностей внедрения способно скорее вызвать хаос в отчетности, чем повысить инвестиционную привлекательность»26.
Почему я столь подробно останавливаюсь на проблеме трудностей перехода к МСФО? Только по одной причине: такой переход не может быть тотальным, т. е. не может осуществляться одновременно с внедрением Международных стандартов оценки (МСО). Ведь МСО не является составной частью МСФО. Иначе говоря, вопрос не может быть поставлен таким образом: раз нам предстоит перейти на МСФО, значит, неизбежно надо внедрять и МСО. Некоторыми авторами такое положение трактуется как «переход на международные стандарты по всем дисциплинам». Однако это не совсем так. Даже применительно к внедрению МСФО речь идет только о консолидированной отчетности. Что касается индивидуальной отчетности, то, по словам нынешнего руководителя этого направления в Минфине России П.З. Шнейдмана, она «в среднесрочной перспективе однозначно будет ориентировочно составляться по национальным стандартам, которые будут ориентироваться на междуна-родные27». Всего же, по оценкам начальника департамента корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации Ц. Церенова, «освоить МСФО предстоит порядка 10 % от общего числа российских предприятий» 28.
Я считаю, что необходима разработка собственных национальных стандартов оценки, которые вобрали бы в себя все самое ценное как Международных стандартов оценки, Европейских стандартов оценки, так и Американских стандартов оценки, не только изданных Фондом оценки США, но и несколькими другими организациями оценщиков – Американским обществом оценщиков, Институтом оценки. Американские стандарты оценки согласуются с американской системой бухгалтерского учета – GAAP.
Совсем недавно вышла из печати большая монография В.В. Качалина «Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP»29. На протяжении всей книги автор подчеркивает, что «GAAP является системой бухгалтерского учета, совместимой с Международными стандартами бухгалтерского учета (International
Accounting Standards – IAS), т. е. с МСФО, по основным вопросам учета30». Причем отмечено, что «по ряду вопросов GAAP содержит куда более подробную методологию ведения учета, чем IAS31». Особо подчеркивается, что, «несмотря на определенные различия между стандартами IAS и GAAP, заложенные в их основу концепции учета практически совпадают». Рамочные положения IAS (IAS Frame work) и Положения о концепциях финансового учета США (Statements on Financial Accounting Concepts – (SFAC) содержат одни и те же базовые принципы бухгалтерского учета32».
Не буду углубляться в характеристику того общего, что присуще GAAP и МСФО. Но ясно одно: американские стандарты оцен- ки, совместимые с GAAP, совместимы и с Международными стандартами оценки. Во всяком случае нет никаких оснований для противопоставлений МСО, скажем, стандартам, которые разработал Американский фонд оценки – The Appraisal Foundation33.
На мой взгляд, ошибочно один к одному воспроизводить Международные стандарты оценки в качестве российских стандартов. Российские стандарты еще нужно разработать с учетом как МСО и ЕСО, так и американских стандартов.
Позиции, занимаемые некоторыми, скажем так, деятелями от оценки по отношению к американским стандартам оценки мне представляются проявлением обскурантизма.
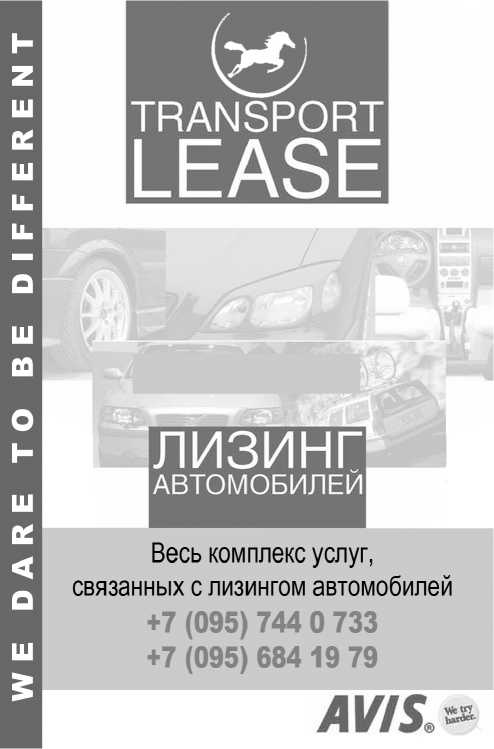
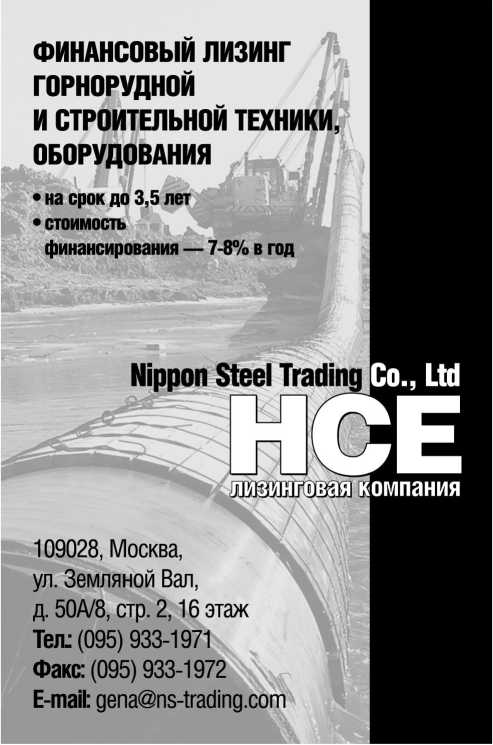
ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ ГОРНОРУДНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИ1 ОБОРУДОВАНИЯ
• на срок до 3,5 лет
• стоимость финансирования — 7-8% в год
Со., Ltd