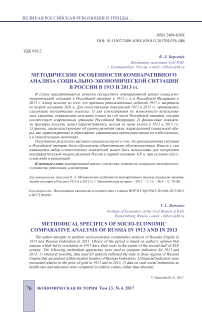Методические особенности компаративного анализа социально-экономической ситуации в России в 1913 и 2013 гг
Автор: Берсенв Владимир Леонидович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Великая российская революция и тренды социально-экономического развития
Статья в выпуске: 4 (39), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка осуществить компаративный анализ социально-экономической ситуации в Российской империи в 1913 г. и в Российской Федерации в 2013 г. Автор исходит из того, что причины революционных событий 1917 г. вызревали со второй половины XIX в. Для сопоставления показателей 1913 и 2013 гг. применялись следующие методические подходы: 1) для сопоставления по возможности использовались сведения, отражающие ситуацию только на той части Российской империи, которая соответствует современным границам Российской Федерации; 2) финансовые показатели (размеры доходов, цены) пересчитывались, исходя из цены золота в 1913 и 2013 гг.; 3) данные, свидетельствующие об уровне развития таких подразделений социальной сферы, как здравоохранение и образование, сравнивались преимущественно не в абсолютных, а в относительных величинах. Полученные результаты наглядно свидетельствуют о том, что революционная ситуация в Российской империи была обусловлена объективными обстоятельствами. Вместе с тем имеющийся набор статистических показателей может быть использован для построения контрафактической модели развития России в первой половине ХХ в. при условии отсутствия войн и революций.
Компаративный анализ, статистика, показатель социально-экономического развития, революция, клиометрика
Короткий адрес: https://sciup.org/14723873
IDR: 14723873 | УДК: 930.2
Текст научной статьи Методические особенности компаративного анализа социально-экономической ситуации в России в 1913 и 2013 гг
Существует предубеждение, что исторический процесс не знает сослагательного наклонения (в оригинале выражение К. Хампе звучит как «Die Geschichte kennt kein Wenn!», или «История не знает никакого “если”»), и к изучению прошлого неприменима посылка «Что было бы, если бы…». Однако данное утверждение применимо лишь к событийному ряду, отраженному в летописях, хронографах и в широко распространившихся за последнее время синхронистических (хронологических) таблицах. История как наука занимается не пересказом произошедшего, а анализом и трактовкой выявленных источников. В этом отношении получаемые в ходе исследования выводы могут быть самыми разнообразными, вплоть до разработки альтернативных вариантов изучаемых тенденций и явлений.
Главный юбилей нашего времени – 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции – не мог не породить в рамках многочисленных дискуссий и вопрос о возможных путях развития России в случае, если бы в точке бифуркации аттрактор изменил бы направление своего движения. Однако, если помещать точку бифуркации в 1917 г., необходимо воспринимать как данность участие Российской империи в Первой мировой войне и связанные с этим необратимые тенденции в экономике страны, обусловившие приближение революционной ситуации. В этом отношении гораздо более выигрышно смотрится предвоенный 1913 г., не случайно служивший базой для сопоставления показателей социально-экономического развития предреволюционной России и СССР. Чаще всего такого рода сопоставление носило пропагандистский характер, однако и в начале XXI столетия компаративный анализ ситуации в 1913 и в 2013 гг. может послужить для поиска ответов на дискуссионные вопросы о причинах и результатах революционных событий 1917 г. и последующего времени.
Что же касается возможностей ретроаль-тернативного анализа перспектив развития России после 1913 г. при условии, что глобальных катаклизмов удалось избежать, то они ограничены отсутствием соответствующей методики построения контрафакти-ческой модели. В Институте экономики УрО РАН уже предпринимались попытки составления ретроальтернативного прогноза, при этом за основу брались динамические ряды, отражающие ход аграрных преобразований в рамках современной экономической реформы [3]. Обращение же к такому обширному материалу, как показатели социальноэкономического развития России в целом, да еще в столь непростой период, требует иных методологических подходов. Более того, даже простое сопоставление показателей 1913 г. и 2013 г. также требует учета ряда моментов методического свойства, без чего полученные выводы не будут восприниматься как адекватные и обоснованные.
Источники и методические особенности их анализа
Следует отметить, что 1913 г. обеспечен необходимым для сопоставления кругом статистических и иных информационно значимых источников. Достаточно указать на статистико-документальный справочник «Россия. 1913 год» [11], в котором сотрудниками Института российской истории РАН было обобщено множество данных из дореволюционных, советских и зарубежных статистических сборников.
В этом же ряду можно рассматривать и монографию бывшего директора НИИ статистики Росстата (Федеральной службы государственной статистики РФ) В. М. Симчеры, исследовавшего вековые тренды социально-экономического развития России с привлечением обширнейшей базы статистических данных за период 1900–2000 гг. [12]. В данном случае 1913 г. выступает всего лишь как одна из значимых вех в рамках общей динамики показателей, но зато во многих случаях эти показатели приводятся в сопоставимых ценах, что, несомненно, облегчает компаративный анализ различных аспектов развития страны.
Примечательно, что В. М. Симчера также постарался пересчитать различающие данные и приводить их в сопоставимых границах Российской Федерации по состоянию на 1 января 2000 г. К сожалению, далеко не все, кто обращается к дореволюционной статистике для своих публицистических изысканий, учитывают этот нюанс. Помнится, в 1997 г., когда отмечалось столетие с момента проведения первой всеобщей переписи населения Российской империи, раздавалось немало высказываний по поводу того, что якобы численность населения страны за истекший период возросла меньше чем на 20 млн чел. Разумеется, тут же вспоминались и войны с революциями, и «десятки миллионов жертв ГУЛАГа», но мало кто удосужился осознать, что территория Российской империи превосходила даже территорию СССР, не говоря уже о современной Российской Федерации. Так что для объективности анализа следовало бы из общих показателей переписи населения 1897 г. вычесть обитателей Привисленских (российская часть Польши) и финляндских губерний, а также население будущих союзных республик.
Важно также определиться с курсом рубля сто лет назад и в настоящее время. В различных публикациях приводятся самые разные показатели – от 250 до 1 100 современных рублей за 1 царский рубль [16]. М. Терешкова применительно к 2010 г. утверждает, что «николаевский рубль равен современным 1 040 руб. 55 коп.» [17]. Эта оценка близка к истине, поскольку в ее основе лежит сопоставление золотого обеспечения национальной валюты тогда и сейчас. Цены на золото дают ту же картину. Если в начале ХХ в. 1 г золота стоил примерно 1 руб. 29 коп., то средневзвешенная цена золота в 2013 г. составляла 1 411,23 доллара США за 1 тройскую унцию, или 45,37 долларов США за 1 г [19]. Для сравнения, по состоянию на 9 июля 2013 г. 1 г золота стоил 1 312 руб. 87 коп (данные «Форекса») [5]. С учетом того, что курс рубля еще не был подвержен серьезным кризисным потрясениям, можно допустить, что 1 золотой рубль царской чеканки в 2013 г. был примерно равен 1 000 рублей Российской Федерации.
Что касается показателей социального характера, то необходимо исходить из следующих посылок. Во-первых, сравнение абсолютных величин чаще всего не отражает всей полноты произошедших за сто лет изменений (хотя внешне может смотреться очень выигрышно) и необходимо оперировать некими производными (относительными) показателями. Во-вторых, содержание некоторых видов услуг тогда и сейчас существенно различается. Это касается и медицины, и образования, и ряда других социальных сфер.
Пожалуй, только сопоставление правового статуса подданного Российской империи и гражданина Российской Федерации не требует применения математического аппарата. В данном случае достаточно определить наличие либо отсутствие норм, регулирующих политические, общественные и иные отношения тогда и сейчас. В целом же компаративный анализ социально-экономической ситуации в 1913 и 2013 гг. неизбежно должен опираться на совокупность методических подходов, без чего невозможно обеспечить корректное сопоставление двух миров – Российской империи накануне войны и революции и современной Российской Федерации.
Как жилось в России в 1913 г.
Поскольку территория Российской империи включала ряд промышленно развитых территорий, ныне в составе Российской Федерации отсутствующих, любопытно посмотреть, насколько различались схемы размещения и развития производительных сил в общенациональном масштабе тогда и сейчас. Например, с учетом указанной особенности и доля Урала в общем объеме промышленного производства в России в 1913 г. выглядит более чем скромно: 3,9 % по промышленности в целом, в том числе по горной промышленности – 8,1 % и по обрабатывающей промышленности – 3,4 % [11, c. 49]. Представлениям об опорном крае державы эти показатели никак не соответствуют. Однако следует учитывать, что, с одной стороны, Прибалтийский и Белорусско-Литовский экономические районы, а также Украина, Бессарабия, Закавказье, Польша и Туркестан выпускали в совокупности 42,7 % всей промышленной продукции империи [Подсчитано по: 11, c. 49], а с другой – горнозаводская промышленность Урала переживала, начиная с последних десятилетий XIX в., далеко не лучшие времена. Впрочем, и высокое звание опорного края державы Урал получил только в середине ХХ в.
Учет привходящих обстоятельств может обесценить даже внешне выигрышные сравнения. Например, В. М. Симчера отмечает, что объем промышленного производства России в целом за 1900–2000 гг. увеличился в 126,2 раза (в сопоставимых ценах и на сопоставимой территории), а аналогичный показатель в США – только в 17,9 раза [12, c. 133]. Однако в том же 1913 г. доля России (в границах империи!) в мировом промышленном производстве составляла 5,3 %, а доля США – 35,8 % [11, c. 51]. Таким образом, низкие темпы роста американской промышленности компенсировались наличием гораздо более объемного по масштабам стартового производственного потенциала. Соответственно, если учитывать не только промышленное производство, а ВВП в целом, то в 2005 г. доля США в валовом мировом продукте составляла 27,3 %, а доля России – 2,6 % [12, c. 362].
Применительно к 1913 г. лучше сопоставлять данные, характеризующие, в духе школы «Анналов», так называемые «структуры повседневности» – условия жизни населения, среду обитания и т. д. Кстати, именно этот аспект той эпохи является в последнее время предметом спекулятивных измышлений о том, как хорошо жилось простому народу в Российской империи (радио «Эхо Москвы» в этом вопросе вне конкуренции) [16; 18].
В числе наиболее значимых повседневных аспектов бытия подданного Российской империи естественным образом выделяются доходы, потребление, здравоохранение и образование. При этом, разумеется, целесообразно при анализе ориентироваться на бытие представителей широких народных масс, а не статусных неподатных сословий – дворян, духовенства, почетных граждан, купцов.
Если исходить из несколько условного, но удобного для расчетов, курса «1 руб. начала ХХ в. = 1 000 руб. РФ в 2013 г.», можно провести достаточно простые сопоставления. В 1910 г. годовой заработок промышленного рабочего в среднем по Европейской России составлял 233 руб., в том числе в Южном степном экономическом районе, где с конца XIX в. наблюдался настоящий промышленный бум, – 371 руб., в Северо-Западном (с центром в Петербурге) – 337 руб., в Прибалтийском – 315 руб. Хуже всего дела обстояли в Юго-Западном, преимущественно сельскохозяйственном, районе. Здесь промышленный рабочий за год зарабатывал 147 руб. [11, c. 311]. К сожалению, в этой статистике не выделяется Урал, хотя все четыре губернии региона относились к Европейской России.
Иными словами, доходы промышленного рабочего колебались от 12 до 31 руб. в месяц. М. Терешкова утверждает, что в первой половине 1914 г. среднемесячная зарплата рабочего составляла 22 руб. 53 коп. [17]. Получается, что за 1910–1913 гг., т. е. во время наивысшего экономического подъема, она возросла весьма незначительно.
Нетрудно также заметить, что средняя заработная плата промышленного рабочего сто лет назад в сопоставимом выражении является практически такой же, как и в настоящее время. По крайней мере, в обрабатывающей промышленности средний доход работника в 2011 г. составлял 21 780 руб. 80 коп. [9, c. 174]. Однако в данном случае важны не номинальные доходы, а уровень и качество потребления, который мог позволить себе промышленный рабочий тогда и сейчас.
Если перевести фунты в килограммы, то в Москве в 1910–1913 гг. пшеничный (ситный, крупитчатый) хлеб стоил более чем в 3 раза дороже, чем в настоящее время (150 руб. за 1 кг против 52 руб.), ржаной хлеб – в 2 раза (77 руб. против 38 руб.), говядина – в 1,3 раза (533 руб. против 442 руб.), сливочное масло – в 2,4 раза (117 руб. за литр против 46 руб.). Только картофель был несколько дешевле (28 руб. против 38 руб. за 1 кг). Особенно дорогими в сравнении с настоящим временем были яйца. Один десяток яиц I сорта стоил 32 коп., или 320 руб. в современном исчислении [11, c. 317–318].
Неудивительно, что среднестатистический москвич сто лет назад в течение года употреблял в пищу всего 48 яиц, в то время как сейчас – 210 шт. Молока и молочных продуктов он употреблял почти в 2 раза меньше (154 кг против 290 кг), и точно такая же картина наблюдалась в потреблении мяса (29 кг против 59 кг). Только картофеля потреблялось несколько больше (114 кг против 100 кг) и, как ни странно, хлеба и хлебопродуктов (200 кг против 127 кг) [14]. Впрочем, последний пример можно рассматривать как еще одну иллюстрацию к «парадоксу Гиффена», когда дорожающий хлеб вытесняет из рациона прочие продукты питания. В любом случае потребление жителей Москвы никак нельзя признать соответствующим современным оптимальным нормам, рекомендуемым медициной.
Еще хуже в Европейской России обстояли дела с доходами от работы по найму у сельскохозяйственных рабочих. В среднем годовая зарплата у них составляла в 1910 г. 143 руб. (около 12 руб. в месяц), в том числе в Прибалтийском районе – 216 руб. (18 руб. в месяц), а в Юго-Западном – 116 руб. (около 10 руб. в месяц) [11, c. 311]. Конечно, батраки, как правило, имели личное подсобное хозяйство, что позволяло им экономить на покупных продуктах питания, однако оправдывать их более низкие доходы этой формой «добровольного рабства», по меньшей мере, безнравственно.
Что касается крестьян (не путать их с сельскохозяйственными рабочими), то их доходы находились в прямой зависимости от обеспеченности хозяйств землей. Паллиативное решение, принятое в рамках реформы 1861 г., о наделении крестьян землей в соответствии со строго устанавливаемыми нормами и консервация аграрного перенаселения превращали проблему малоземелья в российский деревне в хроническую. Более ста лет считается общепринятым сделанный Ю. Янсоном расчет, согласно которому для достаточного обеспечения крестьянской семьи землей требовалось 15–20 десятин на двор [20, c. 17–24]. Итоги земельной переписи 1905 г. показали, что по 50 губерниям Европейской России средний крестьянский надел составил 11,1 десятины, варьируясь от 3,8 десятины в Подольской губернии на Украине до 63,1 десятины в Олонецкой губернии на малонаселенном северо-западе Европейской России. В 48 губерниях (без Архангельской губернии и Донской области) официально малоземельными числились 38,5 млн ревизских душ с 86,2 млн десятин земли, или 2/3 крестьянских наделов [13, c. 11–17].
На Урале дела с наделенностью крестьян землей обстояли несколько лучше. В Вятской, Пермской и Уфимской губерниях к малоземельным относилось чуть более 40 % (2,9 десятины на двор). Кстати, они входили в число специально выделяемых статистикой одиннадцати регионов с наибольшим распространением крестьянского землевладения – до 46 % общей площади, в то время как в среднем по европейской части России земли крестьян занимали до 30–35 % земель сельскохозяйственного назначения. В Оренбургской губернии 21,1 % площади занимали войсковые казачьи земли со средним наделом 67,4 десятины на двор.
Всего же среди сельского населения Урала преобладали бывшие государственные крестьяне, занимавшие 61,4 % общего числа дворов со средним наделом от 14,3 до 24,3 десятины на 1 двор. Бывшие помещичьи крестьяне (9,1–10,2 десятины на 1 двор) занимали 16,8 % общего числа дворов. Меньше всего на Урале имелось бывших удельных крестьян, т. е. ранее находившихся в крепостной зависимости у царской фамилии. Они занимали всего 3,2 % дворов (9,0–18,4 десятины на 1 двор). Кроме того, 18,6 % от общего числа крестьянских дворов на Урале принадлежало башкирскому населению с наделами от 10,4 десятины в Вятской губернии до 44,0 десятины в Оренбургской губернии [13, c. 102–105, 128–129].
Соответственно, проблема малоземелья в европейских губерниях Российской империи являлась одним из ведущих источников перманентного социального напряжения и тривиального голода в деревне. Академик П. Н. Першин на основе разработки статистических данных об урожаях по 500 уездам за 25 дореволюционных лет рассчитал, что через каждые два-три года голодало по 10–15 млн чел. сельского населения [8, c. 7]. Даже на Урале в 1913 г. рацион среднестатистического крестьянина включал 216,8 кг хлеба, муки, крупы и бобовых, 97,1 кг картофеля и только 11,7 кг мяса и сала [4, c. 39].
Иными словами, о каком-то процветании российской деревни в начале ХХ в. говорить можно, только уж очень уверовав в чудодейственную силу Столыпинской аграрной реформы. Кстати, сама по себе концепция преобразований – решить проблему малоземелья через перераспределе- ние наделов в пользу наиболее предприимчивых и рачительных хозяев в сочетании с переходом высвобождавшегося сельского населения в промышленность (для чего общинные порядки и требовалось упразднить) – была вполне рациональна, однако ее реализация требовала слишком много времени. Как известно, на 1 января 1916 г. из сельских «обществ» по всей Европейской России вышло 2 478 тыс. домохозяев, укрепив в собственность 16 916 тыс. десятин земли, что составляло всего 26,9 % дворов и 16,8 % надельных земель (без нераспределенных) [1, c. 13, 146; 6, c. 570–573, 577]. Отсюда понятны слова П. А. Столыпина о необходимости 20 лет спокойного развития России для достижения каких-либо зримых перемен.
В социальной сфере компаративный анализ также выдает неоднозначную картину. Конечно, даже если оценивать состояние здравоохранения в Российской империи и Российской Федерации в относительных показателях, необходимо учитывать, что за прошедшие сто лет медикам удалось победить такие болезни, как оспа (81 588 заболевших в 1912 г.), тиф (569 340 заболевших), холера (5 109 заболевших) [11, c. 323] и ряд других опасных недугов. Однако принципиальное значение для сопоставления имеет такой показатель, как доступность медицинских услуг для населения.
В 2011 г. в Российской Федерации в среднем насчитывалось 94 больничные койки, 51,2 врача и 107,0 фельдшеров на 10 000 чел. населения [9, c. 268, 270]. При этом состояние медицинского обслуживания в стране на протяжении ряда десятилетий считается неудовлетворительным. В Российской империи насчитывались 12,6 коек, 1,3 врача и 1,7 фельдшера на 10 000 чел. населения. Статистика, впрочем, добавляет сюда еще и таких экзотических персонажей, как повивальные бабки (1,7 на 10 000 чел. населения) [11, c. 322]. Так что воспетый великой русской литературой земский доктор, выполняя свой профессиональный и нравственный долг, мог оказать врачебную помощь лишь малой части подведомственного населения.
От доступности и качества медицинской помощи зависят и показатели демографического плана. По расчетам В. М. Симчеры, в 1913 г. на 1 000 чел. населения России (в современных границах) пришлось 47,8 родившихся и 32,4 умерших, т. е. естественный прирост составил 15,4 на 1 000, или 1,54 %. Справочник «Россия. 1913 год» дает еще более высокий показатель естественного прироста – 1,68 %, однако в границах Российской империи (без Финляндии) [11, c. 17; 12, c. 107], т. е. с учетом дополнительных территорий с высокой рождаемостью (Средняя Азия, Закавказье, Украина).
Для сравнения, в 2003 г. число умерших на 1 000 чел. населения Российской Федерации было в 2 раза меньше, чем 90 лет назад – 16,4, однако и число родившихся было почти в 5 раз меньше – 10,2. Впрочем, пик естественной убыли населения пришелся на 2000 г., составив -6,7 на 1 000 чел. населения [12, c. 107]. Только в 2012 г. благодаря ряду мер, направленных на стимулирование рождаемости, был достигнут нулевой показатель прироста/убыли населения – 13,3 родившихся на 13,3 умерших [10]. Следствием этой тенденции стал тот факт, что во второй половине 2017 г., по данным Росстата, доля детей в структуре населения достигла 18,3 %, что является рекордом за последние 15 лет [7]. Остается только надеяться, что этот позитивный тренд не прервется в результате очередных катаклизмов, и естественный прирост населения России продолжится.
Уровень развития образования в Российской империи наиболее объективно характеризует удельный вес грамотных среди населения. Согласно переписи 1897 г., всего грамотных мужчин имелось 29,3 %, грамотных женщин – 13,1 %, в том числе в Европейской России (без Польши) – 32,6 и 13,6 % соответственно. В городах, естественно, уровень грамотности был выше – 45,3 % как по империи в целом, так и в европейской ее части [11, c. 327]. В 1913 г., по оценке
В. М. Симчеры, всего грамотного населения (в границах Российской империи) насчитывалось 65,6 из 164,4 млн чел., или 40,0 %, в том числе в городах 67,6 %, в сельской местности – 34,0 % [Подсчитано по: 12, с. 255]. Поневоле вспоминается О. фон Бисмарк, за полвека до этого сказавший, что битву при Садовой (одно из сражений между пруссаками и австрийцами в период объединения Германии «железом и кровью») выиграл прусский школьный учитель. В преддверие Первой мировой войны русский школьный учитель не мог похвастаться тем, что российские подданные поголовно не просто грамотны, но образованны, инициативны и т. д.
Впрочем, нельзя утверждать, что в стране ничего не делалось для развития системы образования. В 1913 г. в ведении Министерства народного просвещения находились 78 099 так называемых низших учебных заведений, 441 гимназия и 29 прогимназий, 284 реальных училища, 32 технических училища, 873 женские гимназии и 92 прогимназии, а также 33 учительских института и 128 учительских семинарий. Кроме того, 695 учебных заведений различного типа (коммерческие училища, торговые школы и т. п.) находились в ведении Министерства торговли и промышленности, 308 учебных заведений (кроме высших) – в ведении Главного управления землеустройства и земледелия. Кроме того, имелось 2 863 частных учебных заведения и 9 248 национально-религиозных учебных заведений. Наконец, в империи насчитывалось 10 университетов и 53 профильных государственных высших учебных заведения, а также 54 общественных и частных высших учебных заведения [11, c. 328–331, 337, 339, 340–341, 346–347].
Особо следует отметить качество подготовки специалистов с высшим, в первую очередь инженерным образованием. Дореволюционная российская высшая школа не нуждалась ни в каких Болонских процессах для того, чтобы дипломы ее выпускников признавались и высоко ценились за рубежом. Кстати, и негосударственные высшие учебные заведения учреждались преимущественно для достижения социально значимых целей, в том числе для привлечения к учебе представителей непривилегированных слоев общества, а не в качестве «сравнительно честного способа отъема денег у населения», как это было в 1990–2000-е гг.
Можно предположить, что дальнейшее наращивание усилий в этом направлении позволило бы России постепенно преодолеть отставание в сфере образования от ведущих держав мира, однако грядущие войны и революции внесли свои коррективы в данный процесс. Тем не менее, в 1920 г. в РСФСР удельный вес грамотного населения составлял 45,0 %, в том числе среди горожан – 70,7 %, а среди сельского населения – 40,2 % [Подсчитано по: 14, с. 255]. Таким образом, база для успешной реализации одного из ведущих направлений культурной революции в СССР – ликвидации всеобщей неграмотности – была заложена еще в дореволюционные годы.
Впрочем, даже определенные достижения в разных сферах не компенсировали большой набор причин социального напряжения, к числу которых можно добавить и упорное нежелание Николая II поступиться статусом самодержца. По крайней мере, утверждение, что Россия в 1913 г. была демократическим государством, лучше оставить особо впечатлительным поклонникам «России, которую они потеряли». По крайней мере, Государственная дума, хотя и превращалась постепенно из законосовещательного в законодательный орган власти, назвать ее полноценным парламентом затруднительно.
Во-первых, судьба Думы целиком зависела от настроений императора. Николай II без всяких сомнений и сожалений разогнал и первую, и вторую Государственную думу после пары месяцев работы, поскольку не понравились ему настроения, преобладающие среди «народных избранников». Да и третью Думу самодержец Всероссийский в марте 1911 г. отправил «в краткосрочный отпуск», чтобы председатель Совета министров П. А. Столыпин смог провести в чрезвычайном порядке сыгравший впо- следствии в его судьбе роковую роль закон о создании земских учреждений в западных губерниях. По иронии судьбы, не Дума препятствовала принятию этого закона, а Государственный совет – еще один из столпов самодержавия, «назначенный» верхней палатой российского парламента.
Во-вторых, избирались депутаты отнюдь не всенародным голосованием, а посредством выборщиков отдельно по четырем куриям: землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. Разумеется, представительство от каждого сословия было неравномерным (с перевесом в пользу высших сословий), и это не считая прочих цензовых ограничений для участия в избирательном процессе представителей простого народа.
О сохранении такого вопиющего пережитка, как сословный строй, надо сказать особо. К 1913 г. основу населения империи составляли «природные подданные», распределенные между восемью (если включать сюда и казаков) сословиями – от дворян до крестьян. К ним примыкали разночинцы – подданные, правовое положение которых оставалось неопределенным. Помимо этого, выделялись такие группы жителей страны, как инородцы (евреи, народы Средней Азии и т. д.) и финляндские обыватели. Каждое из сословий обладало отдельным правовым статусом, что явно не соответствовало стандартным представлениям о демократии. Кстати, в ходе Февральской революции этот вопрос тоже всерьез не рассматривался, так что пришлось отменять деление населения России на сословия декретом ВЦИК и Совнаркома от 10 (23) ноября 1917 г.
Мифы и реальность
Даже выборочный и укрупненный анализ ряда показателей социально-экономического развития Российской империи по состоянию на 1913 г. наглядно свидетельствует о том, что в стране хватало проблем и противоречий, способных при определенных обстоятельствах стать катализатором политических потрясений. Первая мировая война только усугубила имеющиеся в стра- не и обществе противоречия, и посему две революции 1917 г. произошли не от того, что «люди забыли бога» (встречается и такая трактовка истоков случившегося), а по вполне объективным причинам. Субъективная сторона развития революционных событий – это уже другая история. Как отмечал Н. А. Бердяев, революции несправедливы: «В революции будет истреблена свобода и …победят в ней экстремистские и враждебные культуре и “духу” элементы... Наивным и смешным казалось мне предположение гуманистов революции о революционной идиллии, о бескровной революции, в которой, наконец, обнаружится доброта человеческой природы и народных масс» [2, c. 260].
Тем не менее, в 2013 г. наблюдался всплеск публикаций, в которых Российская империя накануне великих потрясений предстает этаким образцом процветания, демократии и прочих всевозможных достоинств. Как это ни странно, авторами таких лубочных картинок чаще всего выступают потомки тех, кого при государях-императорах дальше барского крыльца даже в праздники не допускали, или кому из поколения в поколение предписано было жить в пределах черты оседлости.
Впрочем, и социально-экономическая ситуация в 2013 г. также могла стать и становилась объектом псевдополитических спекуляций. В частности, на фоне попыток придать разного рода сопоставлениям хотя бы видимость компаративного анализа в Екатеринбурге особо была отмечена статья музыковеда Д. Суворова в газете «Уральский рабочий» с показательным названием «Россия между 1913 и 2013» [15]. Откровенно искажая реальность вековой давности («Сто лет назад Россия не сидела на сырьевой игле» и т. д.), автор подводит к главной мысли – жизнь в современной России ужасна, потому что власть ориентируется на «стабильность» и поддерживает «обанкротившиеся арабские диктатуры» (до начала операции ВКС РФ в Сирии оставалось немногим более двух лет).
Вместо заключения
Таким образом, даже первичное обращение к статистике начала ХХ в. рисует далеко не такую благостную картину жизни народной, как ее пытаются представить современные неомонархисты. Это становится тем более очевидно, если учитывать, что при проведении соответствующего квазианализа не соблюдается базовое правило компаративистики – сопоставлять подобное с подобным.
В рамках данного небольшого исследования учет этого правила сопровождался использованием трех методических подходов.
-
1. Для сопоставления по возможности использовались сведения, отражающие ситуацию только на той части Российской империи, которая соответствует современным границам Российской Федерации (вклад В. М. Симчеры в подготовку информационной базы для такого анализа просто неоценим).
-
2. Финансовые показатели (размеры доходов, цены) пересчитывались по курсу «1 рубль начала ХХ в. = 1 000 руб. РФ в 2013 г.», исходя из цены золота в 1913 и в 2013 гг.
-
3. Данные, свидетельствующие об уровне развития таких подразделений социальной сферы, как здравоохранение и образование, сравнивались преимущественно не в абсолютных, а в относительных величинах.
Известно, что ретроальтернативисти-ка как часть клиометрики или так называемой «новой экономической истории» (Д. Норт и Р. Фогель даже получили за исследования в этой области Нобелевские премии по экономике) требует соблюдения определенных правил, включая использование только достоверной и сопоставимой статистики. Хочется надеяться, что уже имеющаяся и должным образом препарированная статистическая информация о том, как жила наша страна в 1913 г., станет одним из элементов основания, на котором можно будет построить контрафактиче-скую модель развития России в первой половине ХХ в. без войн и революций.
Список литературы Методические особенности компаративного анализа социально-экономической ситуации в России в 1913 и 2013 гг
- Аграрная реформа Столыпина/сост. С. М. Сидельников. -М.: Изд-во МГУ, 1973. -335 с.
- Бердяев Н. А. Самопознание (опыт философской автобиографии). -Париж: YMCA PRESS, 1989. -425 с.
- Берсенев В. Л., Горст А. П. Опыт ретроальтернативного прогнозирования развития социально-экономических систем (на примере сельского хозяйства Свердловской области в 1990-е годы)//Экономика региона. -2007. -№ 2. -С. 33-43.
- Боярских Л. С., Куликов В. М. Материальное положение уральского крестьянства в период подготовки массовой коллективизации//Материальное благосостояние тружеников уральской советской деревни (1917-1985 гг.): сборник научных трудов. -Свердловск: Изд-во УрО АН СССР, 1988. -С. 33-40.
- Данные по учетной цене золота ЦБ РФ на «Форексе» . -URL: http://www.forexpf.ru/chart/gold
- Дубровский С. М. Столыпинская земельная реформа: Из истории сельского хозяйства и крестьянства России в начале ХХ века. -М.: Изд-во АН СССР, 1963. -599 с.
- Зубарев Д. Население России стало рекордно детским . -URL: https://vz.ru/news/2017/10/4/889587.html
- Першин П. Н. Аграрная революция в России. Кн. 1. От реформы к революции. -М.: Наука, 1966. -490 с.
- Российский статистический ежегодник. 2012: статистический сборник. -М.: Росстат, 2012. -786 с.
- Россия: Материал из Википедии -свободной энциклопедии . -URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
- Россия. 1913 год: Статистико-документальный справочник. -СПб.: Блиц, 1995. -415 с.
- Симчера В. М. Развитие экономики России за 100 лет: 1900-2000. Исторические ряды, вековые тренды, периодические циклы. -М.: Экономика, 2007. -683 с.
- Статистикa землевладения, 1905 г.: Свод данных по 50-ти губерниям Европейской России. -СПб.: Издательский центр статистического комитета, 1907. -199 с.
- Сто лет -перемен нет? Зарплаты, цены, потребительская корзина//Аргументы и факты -Урал. -2013. -№ 23. -С. 37.
- Суворов Д. Россия между 1913 и 2013//Уральский рабочий. -2013. -9 октября.
- 1913-2013: сто лет российской жизни в цифрах . -URL: http://www.istpravda.ru/digest/1502/
- Терешкова М. Цены 1913 года в современных рублях . -URL: http://www.krasplace.ru/ceny-1913-goda-v-sovremennyx-rublyax
- Уровень жизни в 1913 году: сравнение с СССР и современной РФ (Выступление Б. Романова на сайте «Эха Москвы») . -URL: http://echo.msk.ru/blog/fedor/929486-echo/
- Цена на золото за 2013 год . -URL: http://goldomania.ru/the_price_of_gold_in_different_years/2013_price_gold.html
- Янсон Ю. Опыт статистического исследования о крестьянских наделах и платежах. -СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1877. -VIII, 166, 26 с.