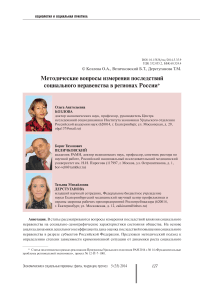Методические вопросы измерения последствий социального неравенства в регионах России
Автор: Козлова Ольга Анатольевна, Величковский Борис Тихонович, Дерстуганова Татьяна Михайловна
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Социология и социальная практика
Статья в выпуске: 5 (35), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы измерения последствий влияния социального неравенства на социально-демографические характеристики состояния общества. На основе анализа динамики децильного коэффициента дана оценка последствий повышения социального неравенства в разрезе субъектов Российской Федерации. Предложен методический подход к определению степени зависимости криминогенной ситуации от динамики роста социального неравенства населения. Проведено сравнение влияния величины децильного коэффициента и покупательной способности на показатели смертности населения регионов России.
Социальное неравенство, измерение последствий, социально-демографиче- ские характеристики населения, покупательная способность
Короткий адрес: https://sciup.org/147109645
IDR: 147109645 | УДК: 332.055.2 | DOI: 10.15838/esc/2014.5.35.9
Текст научной статьи Методические вопросы измерения последствий социального неравенства в регионах России
В России при анализе уровня бедности и социальной дифференциации в основном принимаются во внимание лишь экономические факторы и мало учитываются социальные. С позиции Европейского Сообщества бедными считаются граждане, чьи ресурсы (материальные, культурные и социальные) ограничены так, что исключают для них минимально приемлемый образ жизни в пределах государства проживания. В соответствии с этим определением необходимость учёта социального минимума можно аргументировать тем, что люди не могут надлежащим образом участвовать в жизни общества, поддерживать принятые в данном обществе отношения, если их ресурсы падают ниже определенного минимума.
Социальное неравенство населения, как один из ключевых социально-экономических факторов, влияющих на состояние здоровья, в той или иной степени характерно для всех стран мира. В современной России это также одна из важнейших проблем, требующих решения как с точки зрения обеспечения социально-экономического развития страны, так и с точки зрения улучшения медико-демографической ситуации в российских регионах.
Децильный коэффициент – традиционный индикатор социального неравенства, показывающий, во сколько раз минимальные доходы 10% наиболее обеспеченного населения превышают максимальные доходы 10% наименее обеспеченного населения. В Скандинавских странах децильный коэффициент составляет 3–4 раза; в Евросоюзе – 5–6; Южной и Восточной Азии, Японии и Северной Африке – 4–6; в США – 9; в Южной
Африке – 10; в Латинской Америке – 12. В СССР децильный коэффициент колебался на уровне 3-х. В современной России децильный коэффициент составляет 14 раз [1].
Стремление к социальному равенству возникло со времен появления понятий богатства и бедности, однако дифференциация в доходах и потреблении населения была и остается одной из основных характеристик общества. Интерес к данной проблеме, причинам и последствиям ее возникновения просматривается в различных общественных науках. Так, французский социолог Э. Дюркгейм выводит социальное неравенство из разделения труда: механического (природного, половозрастного) и органического (возникающего вследствие обучения и профессиональной специализации) [2]. Социальное неравенство по определению П. Сорокина – это дифференциация населения на классы в иерархическом ранге. Ее основа и сущность – в неравномерном распределении прав и привилегий, ответственности и обязанности, наличии или отсутствии власти и влияния среди членов сообщества [3].
П. Бурдье пришел к выводу о том, что возможности социальной мобильности определяются различными видами ресурсов, или «капиталов», которыми располагают индивиды, – экономическим, культурным, символическим капиталом [4].
В соответствии с теорией В. Парето механизм возникновения социального неравенства заложен в отсутствии оптимальности в распределении ресурсов, когда невозможно улучшить чье-либо благосостояние без ущерба для благосостояния другого индивидуума [5].
Концепция социальной стратификации М. Вебера выделяет три фактора: богатство, престиж и власть, по которым идет разделение общества на страты [6].
Во всех теориях отправным пунктом является социальное неравенство. Взгляды расходятся в том, что является главным компонентом неравенства – богатство, власть или престиж. В любом случае неравенство связано с положением, при котором люди не имеют равного доступа к социальным благам. Стратификация характеризует способы, с помощью которых неравенство передается от одного поколения к следующему, при этом образуются сословия или социальные слои.
Идеи о современных механизмах социальной дифференциации в обществе высказываются В.Л. Макаровым [7]. Понятие «сословие» автор сравнивает с вводимым им понятием «социальный кластер». Социальный кластер по Макарову – это юрисдикция со своей этикой, правилами поведения, своими законами, своей валютой. Существенны нормы, соблюдение которых принципиально для принадлежности к тому или иному социальному кластеру. При этом в современном обществе Макаров предлагает выделять социальные кластеры не по уровню доходов или происхождению, а по роду профессиональных занятий или по сфере трудовой деятельности.
Проблема социального неравенства и последствий выбора путей ее разрешения весьма точно определена известным французским экономистом Л. Столерю: «Страна, в которой доход каждого медленно растет, может быть счастливой страной; страна, в которой средний доход растет очень быстро, но одновременно увеличивается неравенство доходов, идет навстречу своей гибели» [8].
Социальное неравенство вызывает рост преступности и сужение демократии, ухудшает общественное здоровье и замедляет развитие экономики. Именно поэтому в развитых государствах социальное неравенство удерживается на относительно низком «сбалансированном» уровне.
При исследовании зависимости криминогенной ситуации в России от величины децильного коэффициента было установлено, что чем выше значение данного показателя, то есть чем выше социальное неравенство населения в стране, тем выше значения показателей, характеризующих криминогенную ситуацию (табл. 1) .
При величине децильного коэффициента более 8 количество потерпевших от преступных посягательств граждан увеличивается в четыре с лишним раза (с 12 526 до 53 860 чел.), а число убийств – в 3 раза (со 118 до 358 на 100 тыс. населения).
Таблица 1. Влияние величины децильного коэффициента на криминогенную ситуацию в России в 2008–2012 гг. [9]
|
Группа по уровню децильного коэффициента |
Децильный коэффициент |
Число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. человек) |
Убийство и покушение на убийство |
Число преступлений, по которым установлены потерпевшие |
Численность лиц, потерпевших от преступных посягательств |
|
Наименьшее (менее 6) |
5,65 |
1733 |
118 |
3253 |
12526 |
|
Избыточное (от 6 до 7) |
6,41 |
1841 |
173 |
4850 |
19200 |
|
Опасное (от 7 до 8) |
7,38 |
2119 |
332 |
9768 |
36635 |
|
Нетерпимое (более 8) |
8,95 |
2007 |
358 |
12422 |
53860 |
|
Весь массив |
6,53 |
1851 |
196 |
5716 |
22534 |
Естественно возникает вопрос: ограничивается ли влияние социального неравенства населения только криминальной стороны жизни общества или оно распространяется и на основные демографические процессы, отражающиеся, например, в коэффициентах смертности населения?
Для изучения этого вопроса были проведены исследования влияния децильного коэффициента на общую смертность и смертность от внешних причин в Российской Федерации в течение пяти лет (с 2008 по 2012 г.) (табл. 2) .
Результат получился на первый взгляд парадоксальным: чем меньше социальное неравенство, тем смертность выше. Чтобы разобраться в причинах этого противоречия, прежде всего была подтверждена установленная ранее зависимость коэффициентов смертности населения от величины покупательной способности населения (ПС). Для нивелирования различий местных потребительских цен покупательная способность населения определялась не в рублях, а в относительных единицах, показывающих, во сколько раз среднемесячные денежные доходы населения превышают величину прожиточного минимума (ПМ) (табл. 3).
Зависимость коэффициентов общей смертности и смертности от внешних причин сохраняется обычной: чем меньше покупательная способность населения, тем выше его смертность. За исключением группы с очень низкой величиной покупательной способности, где её влияние на коэффициент смертности населения от внешних причин не имеет очевидного проявления, и это может быть связано с действием других факторов, что в наиболее дотационных территориях значительная часть населения не доживает до пенсионного возраста. Сокращение удельного веса лиц пенсионного возраста и влечет за собой снижение коэффициентов смертности [10, 11].
Таблица 2. Влияние величины децильного коэффициента на показатели общей смертности населения и смертности от внешних причин в субъектах Российской Федерации в 2008–2012 гг.
|
Группа субъектов РФ по величине децильного коэффициента |
Децильный коэффициент, раз |
Смертность общая на 1000 чел. |
Смертность от внешних причин (на 100 тыс. чел.) |
|
Наименьшее (менее 6) |
5,65 |
14,60 |
177,70 |
|
Избыточное (от 6 до 7) |
6,41 |
14,43 |
165,79 |
|
Опасное (от 7 до 8) |
7,38 |
13,20 |
177,76 |
|
Нетерпимое (более 8) |
8,95 |
11,72 |
145,73 |
|
Весь массив |
6,53 |
13,97 |
168,80 |
Таблица 3. Влияние величины покупательной способности населения в субъектах Российской Федерации на показатели общей смертности и смертности от внешних причин в 2008–2012 гг. [9]
|
Группа субъектов РФ по уровню покупательной способности населения |
Покупательная способность населения |
Смертность общая (на 1000 человек) |
Смертность от внешних причин (на 100 тыс. человек) |
|
Повышенная (более 4 ПМ) |
4,60 |
11,72 |
165,04 |
|
Средняя (от 3,5 до 3 ПМ) |
3,70 |
13,64 |
176,05 |
|
Низкая (от 3 до 3,5 ПМ) |
3,22 |
14,45 |
176,86 |
|
Очень низкая (менее 3 ПМ) |
2,73 |
14,62 |
159,53 |
|
Весь массив |
3,33 |
13,97 |
168,80 |
Затем были сопоставлены субъекты Российской Федерации с наибольшим децильным коэффициентом (ДК) и наименьшей ПС. Сопоставление оказалось чрезвычайно показательным (табл. 4) .
Анализ динамики децильного коэффициента свидетельствует о том, что наибольшее значение ДК и социальное неравенство максимально выражено в самых богатых субъектах РФ с высокой покупательной способностью населения, включая столичные (г. Москва и г. Санкт-Петербург) и северные нефтегазовые (ХМАО и ЯНАО) регионы.
В России для измерения бедности и дифференциации доходов населения в качестве основного используют показатель абсолютной бедности, основанный на соотнесении доходов населения с прожиточным минимумом. Бедными в данном случае считаются граждане, чьи доходы не превышают величины одного ПМ. Отметим, что параметры ПМ характеризуются заниженными стандартами потребностей. Как отмечает В. Роик, некоторые из них ниже уровня, характерного для военного времени [12]. В настоящее время как в целом по стране, так и в большинстве регионов средний уровень доходов российских граждан ненамного превышает 3ПМ.
В региональном разрезе наблюдается значительная дифференциация доходов и заработной платы, в значительной степени обусловленная сложившейся хозяйственной специализацией регионов. Например, Курганская область, являясь агропромышленным регионом, характеризуется самой низкой покупательной способностью заработной платы (в 2008 г. – 2,63 ПМ, в 2012 г. – 2,98 ПМ) среди всех субъектов Федерации, входящих в Уральский федеральный округ. Сырьевые регионы, такие как
Таблица 4. Субъекты РФ с наименьшей покупательной способностью* и с наибольшим децильным коэффициентом** в 2008–2012 гг. [9]
|
Субъекты РФ с наименьшей покупательной способностью |
5 i О о С |
2 В § е- If |
Mi-£ £ 5 В хО cd аз О T ^ со |
3 В § е- If |
5 i О о С |
|
Алтайский край |
2,33 |
5,7 |
г. Москва |
11,8 |
4,68 |
|
Республика Алтай |
2,43 |
5,5 |
Тюменская область |
8,8 |
4,15 |
|
Республика Дагестан |
2,52 |
6,6 |
Ненецкий АО |
8,7 |
4,56 |
|
Костромская область |
2,59 |
5,5 |
Самарская область |
8,5 |
2,88 |
|
Карачаево-Черкесская Республика |
2,61 |
5,7 |
г. Санкт-Петербург |
8,3 |
4,83 |
|
Ивановская область |
2,64 |
5,4 |
Ямало-Ненецкий АО |
8,3 |
5,46 |
|
Республика Адыгея |
2,64 |
6,0 |
Республика Башкортостан |
8,1 |
3,59 |
|
Республика Калмыкия |
2,66 |
5,8 |
Ханты-Мансийский АО |
8,1 |
5,00 |
|
Курганская область |
2,68 |
6,8 |
Красноярский край |
8,0 |
3,72 |
|
Свердловская область |
8,0 |
3,62 |
|||
|
* Покупательная способность рассчитана как среднее значение за годы наблюдения. Если субъект РФ не все годы попадал в 4-ю группу с наименьшим значением покупательной способности, то децильный коэффициент рассчитывался соответствующим этому периоду. ** Аналогично по децильному коэффициенту: если субъект РФ не все годы попадал в 4-ю группу с наибольшим децильным коэффициентом, то рассчитывалось его среднее значение и соответствующее этому же периоду значение покупательной способности. |
|||||
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, имеют самый высокий уровень покупательной способности трудовых доходов (в 2008 г. – 5,00 и 5,41 ПМ, в 2012 г. – 5,35 и 5,84 ПМ соответственно) не только в федеральном округе, но и в целом по России, находясь в одном ряду с Москвой. В то же время старопромышленные регионы федерального округа – Свердловская и Челябинская области характеризуются невысокой покупательной способностью, уровень которой немного превышает три величины прожиточного минимума (в 2008 г. – 3,62 и 3,28 ПМ, в 2012 г. – 3,76 и 3,77 ПМ соответственно) [9].
По сути, постоянно воспроизводится глубоко порочная ситуация, когда регионы, обладающие трудоемкими производствами с высокой добавленной стоимостью производимой продукции, в конечном итоге имеют значительно более низкие показатели заработной платы, чем регионы, специализирующиеся на добыче сырьевых ресурсов.
Покупательная способность денежных доходов населения минимальна в республиках Северного Кавказа, на Алтае, в Ивановской и Костромской областях при незначительной выраженности социального неравенства в этих субъектах РФ. В богатых субъектах РФ высокая покупательная способность населения частично маскирует негативное влияние социального неравенства на общественное здоровье.
Для достижения в сфере оплаты труда принципа социальной справедливости необходимо активное включение государства в формирование механизма эффективного и социально справедливого распределения вновь созданной стоимости по факторам производства [13]. Задача кардинального роста заработной платы наемных работников связана не только с проблемой достижения принципа «социальной справедливости», но и обусловлена объективной экономической необходимостью.
Между социальным равенством, с одной стороны, и экономическим ростом и эффективностью производства – с другой, существует противоречие, с которым необходимо считаться и находить средства и методы для его своевременного разрешения, а именно: стремясь к социальному равенству и изымая доходы богатых слоев общества в пользу бедных, государство сокращает тем самым возможности предпринимательских структур к расширению производства и росту экономической активности.
В то же время совершенно неоправданна противоположная ситуация: некорректируемый рост доходов богатых слоев общества, с одной стороны, и обеднение и социальное расслоение – с другой. Чрезмерные контрасты в доходах и потреблении населения приводят к нарушению баланса интересов различных социальных слоев общества, провоцируя возникновение экономических, социальных и политических конфликтов [14].
В этой связи необходимо комплексное решение давно назревшей проблемы роста социальной дифференциации, и прежде всего внятная и грамотно выстроенная политика доходов и заработной платы с привлечением к разработке этой политики результатов научных исследований в сфере социально-экономических и демографических процессов, идущих в регионах нашей страны, в частности данных новой интегральной науки, получившей название «социальная биология человека» [15].
Список литературы Методические вопросы измерения последствий социального неравенства в регионах России
- Аганбегян, А.Г. Социально-экономическое развитие России/А.Г. Аганбегян. -М.: Дело, 2004. -272 с.
- Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. Метод социологии/Э. Дюркгейм. -М., 1991. -576 с.
- Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество/П. Сорокин. -М.: Политиздат, 1992. -308 с.
- Бурдье, П. Социальное пространство: поля и практики/П. Бурдье; сост. и общ. пер. с фр. и послесл. Н.А. Шматко. -Ч. 1. -СПб.: Алетейя, 2007. -567 с.
- Vilfredo Pareto. The Circulation of Elites. -In Talcott Parsons, Theories of Society; Foundations of Modern Sociological Theory, 2 Vol., The Free Press of Glencoe, Inc., 1961. -P. 108.
- Вебер, М. Избранные произведения/М. Вебер. -М.: Прогресс, 1990. -808 с.
- Макаров, В.Л. Социальный кластеризм. Российский вызов/В.Л. Макаров. -М.: Бизнес Атлас, 2010. -272 с.
- Столерю, Л. Равновесие и экономический рост/Л. Столерю: пер. с фр. -М., 1974. -440 с.
- Социальное положение и уровень жизни населения России [Электронный ресурс]. -URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138698314188 (дата обращения 27.09.2014)
- Величковский, Б.Т. Жизнеспособность нации. Взаимосвязь социальных и биологических механизмов в развитии демографического кризиса и изменении здоровья населения России/Б.Т. Величковский. -М.: РАМН, Тигле, 2012. -256 с.
- Оценка влияния социально-экономических факторов на здоровье населения и использование ее результатов при принятии управленческих решений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения (на примере Свердловской области)/Т.М. Дерстуганова, Б.Т. Величковский, В.Б. Гурвич, А.Н. Вараксин, О.Л. Малых, Н.И. Кочнева, С.В. Ярушин//Научно-практический журнал «Анализ риска здоровью». -2013. -№ 2. -С. 49-55.
- Роик, В. Методы оценки, масштабы и последствия бедности/В. Роик//Человек и труд. -2010. -№ 1. -С. 45-49.
- Козлова, О.А. Приоритетные направления социальной политики в решении проблем бедности/О.А. Козлова//Социально-экономические проблемы воспроизводства и замещения поколений населения России в XXI веке: науч.-практ. конф. «Преемственность поколений: социально-демографические аспекты». Материалы круглого стола. -Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2011. -С. 140-151.
- Татаркин, А.И. Формирование постиндустриального социального государства: вектор развития человеческого потенциала/А.И. Татаркин, Е.Л. Андреева//Проблемы теории и практики управления. -2014. -№ 7. -С. 24-31.
- Величковский, Б.Т. Социальная биология человека. Введение в научную специальность/Б.Т. Величковский, Н.В. Полунина. -М.: РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Тигле, 2013. -237 с.