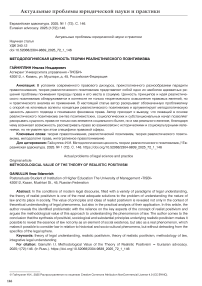Методологическая ценность теории реалистического позитивизма
Автор: Гайнуллин И.И.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы юридической науки и практики
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
В условиях современного правового дискурса, преисполненного разнообразием парадигм правопонимания, теория реалистического позитивизма представляет собой одно из наиболее адекватных решений проблемы понимания природы права и его места в социуме. Ценность принципов и идей реалистического позитивизма обнаруживается в контексте не только теоретического осмысления правовых явлений, но и практического анализа их применения. В настоящей статье автор раскрывает обозначенную проблематику с опорой на ключевые аспекты концепции реалистического позитивизма и аргументирует методологическую ценность данного подхода к пониманию феномена права. Автор приходит к выводу, что лежащий в основе реалистического позитивизма синтез позитивистских, социологических и субстанциональных начал позволяет раскрывать сущность права не только как элемента социального бытия, но и как реального явления, благодаря чему возникает возможность рассматривать право во взаимосвязи с историческими и социокультурными явлениями, но не умаляя при этом специфики правовой сферы.
Теория правопонимания, реалистический позитивизм, теория реалистического позитивизма, методология права, интегративное правопонимание
Короткий адрес: https://sciup.org/140310535
IDR: 140310535 | УДК: 340.12 | DOI: 10.52068/2304-9839_2025_72_1_146
Текст научной статьи Методологическая ценность теории реалистического позитивизма
Центральная и неиссякаемая проблема юридической науки – познание онтологических, гносеологических и аксиологических начал права. В лабиринтах философских рассуждений таится множество различных учений о праве, каждое из которых предлагает уникальную интерпретацию природы права. Примирение, а вместе с тем и сущностный синтез концептуальных позиций классических типов правопонимания находит себя в интегративных концепциях понимания права, создающих поле для конструктивной и толерантной научной дискуссии.
Право в рамках интегративного понимания рассматривается как динамическая и многогранная система, не изолированная от социального бытия, несущая исторический и социокультурный след, опосредованная практической и ментальной деятельностью человека. Перечисленные идеи с разной степенью интенсивности получают развитие в рамках отдельных правовых концепций, в зависимости от чего одни концепции приводят к более глубокому раскрытию специфики права и связанных с ним явлений, другие – к осознанию социальной природы права, обусловленной культурными и историческими контекстами.
Оценивая множественность методологии изучения права, согласимся с мнением О.Э. Лейста: «Рассуждая о сущности права, мы должны сознавать, что всеобщее единообразное понимание философско-правовых и иных социальных проблем может быть только искусственным и вынужденным» [1, с. 65]. Однако же особой методологической ценностью на сегодняшний день, на наш взгляд, обладает концепция реалистического позитивизма профессора Р.А. Ромашова, также принадлежащая к числу интегративных. Синер-гирующий начала юридического позитивизма и реалистической философии реалистический позитивизм акцентирует внимание на фактическом применении норм права и их реальном воздействии на социальные отношения, что обеспечивает преимущество этой концепции перед иными теориями интегративного правопонимания, нередко уходящими в абстракции и иллюзии, сильно оторванные от эмпирической действительности. Рассмотрим аспекты методологической ценности теории реалистического позитивизма более детально.
Во-первых, реалистический позитивизм выгодно выделяется на фоне иных концепций интегративного понимания благодаря принципу объективности, лежащему в основе данной теории. Ключевой методологической установкой юридического позитивизма является стремление к син- тезу формального, субстанционального и социологического подходов к пониманию права, при учете того, что правовая форма первична по отношению к правовому содержанию. Реализация данной идеи производится через условное разделение права на реальное и абстрактное [2, с. 61].
Реальное право дихотомично, под ним подразумевается: а) действующая система норм права, рассредоточенная между формальными источниками права; б) функциональное право, выходящее за пределы формальных источников. Наибольший интерес здесь представляет, конечно, функциональное право, выделение которого является одним из критериев идентификации интегративности рассматриваемой теории.
Под функциональным правом Р.А. Ромашов предлагает понимать «систему, складывающуюся из общественных отношений, достигших в своем развитии уровня, соответствующего правилу, закрепляемому в правовой норме; действенных гарантий, обеспечивающих реальную возможность субъекта осуществлять предусмотренные соответствующими нормами предписания; саму норму, представляющую собой основополагающий элемент права; результативные последствия исполнения (нарушения) закрепленного в норме предписания» [2, с. 63]. Стоит отметить, что концепция реалистического позитивизма, в отличие от иных интегративных концепций, достаточно полно и лаконично раскрывает проблему функциональности права, в основе которой усматривается два критерия: объективная и субъективная общезначимость, результативность. Таким образом, реальное право, с одной стороны, отображает право как оно есть в действительности, в отрыве от философских и социокультурных его характеристик, с другой – показывает его место в социуме в определенный период. Именно здесь можно не только рассмотреть разницу между правом и законом, но и обнаружить формулу эффективности права, которая заключается в эмпирической проверке правовых норм и их применения.
Далее выделяемое Р.А. Ромашовым абстрактное право подразумевает деление права на публичное (позитивное и негативное) и частное. В таком контексте классификации права на материальное и процессуальное, отраслевая и уровневая градация утрачивают свою актуальность.
Ценность категории «абстрактное право», главным образом, заключается в возможности выявления специфики методов правового регулирования, проявляющейся через воздействие на правоотношения. Императив публичного позитивного права проявляется через установление правил должного поведения, императив публичного негативного – через установление правил недопустимого поведения, диспозитив частного права – через установление правил возможного поведения. На основании приведенной формулы автором концепции раскрывается проблематика юридической ответственности, которой, к слову, интегративная юриспруденция уделяет необоснованно мало внимания.
Юридическая ответственность в реалистическом позитивизме рассматривается в контексте индивидуальных правонарушений (как обязанность субъекта права), а также в контексте более широких социокультурных условий, в которых она функционирует (как механизм обеспечения правопорядка). Особое значение принадлежит идее Р.А. Ромашова о необходимости интеграции теоретических и практических аспектов юридической ответственности и учете не только юридических норм, но реальных социальных практик. Такой подход, безусловно, способствует более адекватному пониманию института юридической ответственности в обществе. Познание сути механизма юридической ответственности, на наш взгляд, является одной из центральных проблем юриспруденции, поскольку именно здесь право не просто регулирует отношения и охраняет права, а изменяет судьбы людей. Таким образом, раскрытие проблемы юридической ответственности мы находим одним из важнейших преимуществ реалистического позитивизма перед иными интегративными концепциями.
Далее обратимся к вопросам содержания права в рамках реалистического позитивизма. Понимание права в качестве полисемичной системы раскрывается через следующие его компоненты: правовые ценности, опыт, традицию, доктрину, догму, эмпирику [3, с. 20]. Такой достаточно широкий подход позволяет исследовать развитие права в различных плоскостях правового бытия. Наиболее важно здесь то, что, несмотря на позитивистскую основу рассматриваемой теории, право всё же выходит далеко за пределы норм.
Кроме того, реалистический позитивизм смещает фокус внимания на право как на часть социальной культуры, которая возникает и развивается одновременно с социумом. При этом особым значением наделяются исторические особенности, национальные традиции и язык, которые рассматриваются в качестве системообразующих конструкций, вне которых правовая жизнь невозможна [3, с. 3].
Таким образом, критический анализ права в реалистическом позитивизме производится через призму опыта и практики, что способствует выявлению несовершенств правового регулирования, качественному толкованию норм права, повышению уровня адаптированности права к внешним изменениям, происходящим в обществе.
И, наконец, считаем необходимым отметить некую парадоксальность методологии реалистического позитивизма, которая проявляется в следующем.
Реалистический позитивизм нельзя назвать антропоцентристской теорией, каковыми, например, являются коммуникативная теория А.В. Полякова и диалогическая концепция И.Л. Честнова. Анализ права в контексте целенаправленной человеческой деятельности в рамках реалистического подхода происходит через различение права как явления объективной и субъективной реальности, где объективно право не зависит от деятельности конкретного субъекта. Также реалистический позитивизм не тяготеет к толкованию права через обозначения социально-духовных ценностей справедливости, равенства, свободы, чести и т. д., что, например, свойственно либертарной теории В.С. Нерсесянца. Рассуждение о праве при применении реалистического подхода ведется на уровне абстракций более низкого порядка.
Так вот, парадокс заключается в том, что, не ставя своей прямой задачей отразить связь права с деятельностью человека и общесоциальными ценностями, именно реалистический позитивизм обладает реальной силой в интеграции высших ценностей в правовую действительность благодаря признанию единства формальности права и обусловленной социальным характером функциональности права (при первичности первого).
В завершение настоящего исследования хотелось бы сказать, что из всех компонентов, определяющих жизнь социума, право, на наш взгляд, наиболее остро нуждается в адекватной, неото-рванной от реальности концепции понимания, поскольку именно в правовой сфере решаются судьбы людей на уровне высших ценностей. Достижение этой цели невозможно вне признания первичности силы позитивного права, так как определяющим значением в регулировании общественных отношений обладает, прежде всего, норма права. При всем стремлении авторов интегративных концепций отодвинуть формальные позитивистские установки в представлении о праве на дальний план, перенести предлагаемые ими социальные парадигмы на реальные отношения представляется возможным только в теоретической проекции. В этой связи большинство интегративных концепций оказываются в той или иной мере схоластичными, однако исключением следует считать реалистический позитивизм.
Методологическая ценность данной концепции заключается в том, что лежащий в ее основе синтез позитивистских, социологических и субстанциональных начал позволяет раскрывать сущность права не только как элемента социального бытия, но и как реального явления. Это позволяет рассматривать право во взаимосвязи с историческими и социокультурными явлениями, но не умаляет значения специфики правовой сферы. Объективность и эмпиризм реалистического позитивизма служат повышению эффективности правотворчества и реализации права.
Кроме того, нельзя не отметить, что исследуемый подход предлагает оперировать устоявшимися категориями права и стремиться к четкости в толковании правовых дефиниций. Это, в свою очередь, указывает на ценность данного подхода в контексте юридической науки.
Совокупность перечисленных характеристик концепции реалистического позитивизма делает ее наиболее практически применимой и оттого наиболее понятной и адекватной моделью понимания права. Справедлив в своем выражении Р.А. Ромашов: «Однако любая теория (по крайней мере, теория социальная) должна быть связана с неким практическим приложением» [4, с. 5]. Полагаем, профессор в полной мере подтвердил данное высказывание теорией реалистического позитивизма.