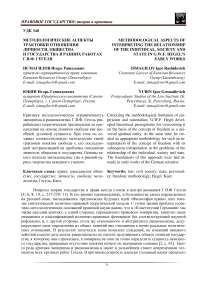Методологические аспекты трактовки отношения личности, общества и государства в ранних работах Г.В.Ф. Гегеля
Автор: Исмагилов Игорь Рашидович, Юбин Игорь Геннадиевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 2 (52), 2018 года.
Бесплатный доступ
Критикуя методологическую ограниченность эмпиризма и рационализма, Г.В.Ф. Гегель разрабатывал теоретические предпосылки ее преодоления на основе понятии свободы как всеобщей духовной сущности. При этом он создавал соответствующую методологию такой трактовки понятия свободы с его последующей экстраполяцией на проблемы отношения личности, общества и государства. Основы такого подхода закладывались уже в ранний период творчества немецкого ученого.
Право, гражданское общество, государство, личность, свобода, методология, гегель, кант
Короткий адрес: https://sciup.org/142233944
IDR: 142233944 | УДК: 340
Текст научной статьи Методологические аспекты трактовки отношения личности, общества и государства в ранних работах Г.В.Ф. Гегеля
Вопросы теории государства и права всегда стояли в центре внимания Г.В.Ф. Гегеля [4; 6; 8; 10, с. 237-259; 11]. В его ранних произведениях, в большинстве своем переведенных на русский язык, закладывались предпосылки будущих идей «Философии права», шел генезис синтетической политико-правовой теоретической модели. С точки зрения проблем теоретико-методологических оснований правовой науки важно, что в «Конституции Германии» мы также находим критику, с одной стороны, упрощенного правового эмпиризма, занятого лишь описанием и классификацией политико-правовых феноменов без соответствующей научной рефлексии, и, с другой стороны, столь же отвлеченного и абстрактного рационализма, дедуцирующего свои определения из общих понятий вне отношения к почве реальных политических отношений. В результате получался лишь комплекс суждений, не имевший никакого действительного результата: рационалисты не смогли дедуцировать общего понятия государства, к которому они стремились, а эмпирики не смогли точно определить сущность немецкого государства, прикрывая отсутствие понятия ничего не значащими словами [2, с. 65]. Такого рода критика эмпиризма и рационализма в науке в дальнейшем станет непременным элементом всех крупных работ Гегеля. В противоположность адептам уходящей науки прошлого

века, он считал, что подлинное научное знание должно быть действительным синтезом эмпирии и рациональности. Этот синтез воплощается в понятии предмета, выражающем его внутреннюю суть, его истину. И это содержание Гегель называл понятием.
Задачу правовой науки Гегель видел, прежде всего, в том, чтобы выявить и эксплицировать само понятие права и государства. «То, что уже не может быть выражено в понятиях, больше не существует» [2, с. 65], примером чему является германское государство начала XIX в. И наоборот, теория права, оторванная от социальной действительности, не может объяснить своего предмета. В этом Гегель видит отличие теории права и государства от других видов научных теорий, которые могут иметь содержание безотносительно к степени осу-ществленности своего объекта: «Планы и теории могут претендовать на реальность в той мере, в какой они осуществимы, значимость их не меняется от того, обрели они свое воплощение в реальности или нет; что же касается теории государства, то она может отражать состояние государства и конституции лишь постольку, поскольку она реальна» [2, с. 76].
Согласно воззрениям раннего Гегеля, истинное государство, т.е. государство, соответствующее своему понятию в том смысле, какой вкладывал в это слово будущий автор «Науки логики», должно обладать достаточными возможностями для защиты объединенных им масс людей и своей собственности, прежде всего земель. Государство должно отвечать требованиям целостности и внутренней устойчивости. Эти идеи Гегель развивает в первом параграфе своей работы, который так и называет: «Понятие государства». Утверждая, что Германия больше не является государством, Гегель показывает, что она не отвечает ни одному из критериев государства, не отвечает самому понятию государства. Она не подходит ни под одно из определений государства, данных Аристотелем. Его даже нельзя назвать анархией, поскольку для анархии также нужна некоторая политическая целостность: «Будь Германия государством, это состояние распада можно было бы с полным основанием вслед за одним иностранным ученым в области государственного права назвать анархией; однако этому препятствует то обстоятельство, что отдельные части империи конституировались в государства, сохраняющие некоторую видимость единства» [2, с. 76]. Современная ему Германия – это просто совокупность отдельных суверенных государств («Германия – больше не государство», – этой яркой фразой Гегель начинает Введение к своей «Конституции Германии»).
В современных условиях особую актуальность работе «Конституция Германии» придает то, что в ней Гегель рассматривает процесс трансформации реальных государств и соответствующее развитие самого понятия государства в результате тех фундаментальных изменений, которые внес в политико-правовую жизнь Вестфальский мир. Это важно. поскольку сегодня в связи с процессами глобализации все чаще ставят вопрос о кризисе самой модели «вестфальского государства» (например, Ю. Хабермас [12; 19]). Именно Вестфальский мир покончил, по мысли Гегеля, с прежней Германской империей, которая стала выглядеть архаизмом в кругу суверенных «вестфальских» государств и постепенно стала своего рода фантомным государственным образованием [2, с. 100, 146]. И будущий автор «Философии права» детально и обстоятельно рассматривает этот процесс, а также закреплявшие его дипломатические и правовые документы [2, с. 100-104]. В параграфе «Процесс образования государств в других европейских странах» Гегель исследует процесс становления модели «вестфальского государства» в целом, используя методы и историко-правового, и теоретико-правового анализа.
Следующим за работой «Конституция Германии» шагом на пути создания системной политико-правовой теории стала работа 1802–1803 гг. «О научных способах исследования естественного права, его месте в практической философии и его отношении к науке о позитивном праве». Здесь Гегель развивает свою критику эмпирического и рационалистического в духе Нового времени способов истолкования права (последний он называет формальный способом), начало которой было положено в «Конституции Германии». Им он противопоставляет идею нового метода, который получает название «абсолютного»: «истинным отличием принципа науки можно считать только следующее: находится ли она в абсолютном единстве или вне абсолютного единства, в противоположности» [2, с. 188]. Поскольку в это время Гегель, пока еще совместно с Шеллингом, стремился к преодолению односторонности субъективизма и объективизма в философии и к научному постижению идеи Абсолюта, снимающего в себе эти противоположности, постольку идея «абсолютного» метода становится для него особо актуальной. В понимании Гегеля и Шеллинга абсолютность метода означает не универсальность и не наличие каких-то гарантий автоматического достижения истины, а лишь способ диалектического восхождения от особенного к всеобщему, абсолютному.
Согласно гегелевской критике, эмпирический метод не может быть признан в строгом смысле слова научным, поскольку он ориентирует лишь на внешнее описание правовых явлений. Здесь, правда, выдвигаются некоторые основания для обобщения, но они являются чем-то случайным, недоказанным, а потому проблематичным. Формальная наука, напротив, отрывает абсолютное основание от особенного содержания, тем самым делая знание бессодержательным: «ту форму науки, где противоречие положено абсолютно, а чистое единство или бесконечность есть негативно абсолютное, полностью обособленное от содержания и положенное для себя, мы назовем чисто формальной наукой» [2, с. 189].
Абсолютный метод познания, развивающийся из трансцендентального метода Канта, познает в диалектическом равновесии, с одной стороны, единство правовой материи, а с другой стороны, множественность ее форм [2, с. 205]. Этот метод позволяет понять диалектическую природу главного основания права – свободы, которую эмпирический и формальный метод, абсолютизируя, соответственно всеобщее или индивидуальное, превращают в абстракцию: «Прежде всего, встречается ничтожная абстракция понятия всеобщей свободы, существующей якобы отдельно от свободы индивидуумов; на другой стороне находится столь же изолированная свобода индивидуумов» [2, с. 224]. Столетием позже аналогичную критику кантианства мы можем встретить в работах Г. Радбруха, апеллировавшего к понятию целевой установки, синтезирующей начало всеобщей свободы и свободы индивидуума [3; 5, с. 19-26]. Целевая установка в области явлений культуры выступает как стремление к ценности. При этом, чем о более масштабных и значительных явлениях культуры мы ведем речь, тем более высокого ранга является формирующая их система ценностей [15, с. 12-14].
Согласно Гегелю, у Канта мы находим совершенно односторонний взгляд на сущность правовой свободы. Свободу нельзя свести только к свободе социума, поскольку в ней растворится индивидуальное. Но и чисто индивидуальная свобода невозможна, поскольку тогда индивид будет детерминирован чем-то внешним: «свобода, для которой нечто поистине внешнее было бы чуждым, не есть свобода; ее сущность и формальная дефиниция есть именно то, что нет ничего абсолютно внешнего» [2, с. 224]. Позже Гегель разовьет эту мысль в «Философии права» и наиболее четко выразит в своих «Лекциях по истории философии», комментируя Платона и воспроизводя его идею о том, что нельзя быть свободным и справедливым человеком, живя в несправедливом обществе. Переходным этапом к зрелой теории абсолютного идеализма Гегеля стала рукопись, озаглавленная «Система нравственности», относящаяся к 1805–1806 гг. Понятие нравственности в ней трактуется предельно широко. В отличие от морали, которую Гегель связывал преимущественно с субъективным миром человека, нравственность охватывает всю систему объективных, материальных и духовных, форм жизни гражданского общества, обуславливающих ориентацию личности на ценности абсолютного блага. Такая трактовка понятия нравственности как формы гармонизации отношения гражданского общества и государства войдет позднее и в «Философию права».
Здесь же и предвосхищается архитектоника «Философии права». Гегель говорит о субъективном духе, связывая его, прежде всего, с проблемой воли человека. Далее – о действительном духе, аналоге позднейшего понятия объективного духа, охватывающем в единстве сферу морали и нравственности и посвященном проблематике договора, преступления и наказания, закона и моральных норм. Третий раздел посвящен понятию государственного устройства. В основу последнего положен принцип свободы, который применительно к государственному устройству трансформируется в методологический «органический принцип», посредством которого принцип свободы получает свое «механическое строение». Его вопло-
щение осуществляется через гармонию, живое бытие единого», управляемого и управляющего, народа и правительства [2, с. 364-365].
Список литературы Методологические аспекты трактовки отношения личности, общества и государства в ранних работах Г.В.Ф. Гегеля
- Верховодов Е.В., Сальников В.П., Романовская В.Б. «Естественное право» и «добродетель» в трудах Аристотеля / Юридическая наука: история и современность. 2015. № 8. С. 201-208.
- EDN: UIPFXX
- Гегель Г.В.Ф. Политические произведения. М.: Мысль, 1978.
- Грибов И.Н., Петросян Л.К. Г. Радбрух о ценностной сущности конституционных прав личности / Юридическая наука: история и современность. 2017. № 4. С. 195-197.
- EDN: YQRANK
- Денисов А.М., Исмагилов И.Р., Масленников Д.В. Гегель и Савиньи: становление идеи историзма в праве / Юридическая наука: история и современность. 2017. № 3. С. 181-185.
- EDN: YQDHMP
- Идея справедливости в традициях постклассической философии права: научное издание / Р.Ф. Исмагилов, Д.В. Масленников, В.П. Сальников, С.И. Захарцев, М.В. Сальников, Л.К. Петросян, А.В. Черняева. СПб.: Фонд «Университет», 2012.