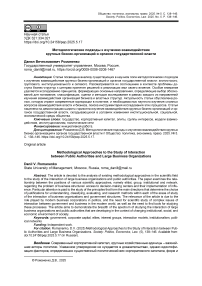Методологические подходы к изучению взаимодействия крупных бизнес-организаций и органов государственной власти
Автор: Романенко Д.В.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу существующих в научном поле методологических подходов к изучению взаимодействия крупных бизнес-организаций и органов государственной власти: элитистского, группового, институционального и сетевого. Рассматривается их соотношение в контексте проблемы до-ступа бизнес-структур к центрам принятия решений и реализации ими своего влияния. Особое внимание уделяется исследованию принципов, формирующих основные направления, определяющие выбор обоснований для понимания, классификации, оценки и методов исследования в рамках каждого из направлений изучения взаимодействия организаций бизнеса и властных структур. Актуальность статьи обусловлена ро-лью, которую играют современные корпорации в политике, и необходимостью научного изучения сложных вопросов взаимодействия власти и бизнеса, поиска инструментария исследования этих процессов. Статья нацелена на демонстрацию широты горизонта изучения взаимодействия крупных бизнес-организаций и органов государственной власти, складывающихся в условиях изменения институциональной, социальной, экономической среды общества.
Государство, корпоративный капитал, элиты, группы интересов, модели взаимодействия, институционализм, политические сети
Короткий адрес: https://sciup.org/149147929
IDR: 149147929 | УДК: 321:334.021 | DOI: 10.24158/pep.2025.5.17
Текст научной статьи Методологические подходы к изучению взаимодействия крупных бизнес-организаций и органов государственной власти
Государственный университет управления, Москва, Россия, ,
методов его представительства, требует обращения к широкому спектру подходов, используемых в политической науке. Изучение участия корпоративного капитала в политике акцентированно прежде всего на проблеме доступа к центрам принятия решений и реализации влияния.
Инструментами изучения указанной проблемы являются теоретико-методологические принципы элитистского, группового, институционального и сетевого подходов.
Проблеме доступа корпоративного капитала к центрам принятия решений уделяется большое внимание в рамках элитистского подхода. В его основе лежит постулат, подразумевающий принятие ключевых решений привилегированным кругом лиц, влияние остальных групп практически не имеет значения. Такое положение сил детерминировано неравномерным распределением ресурсов.
Значительный вклад в развитие подхода внесли Г. Моска и Р. Михельс, описав элиту как фактически существующее, стремящееся к обладанию и удержанию власти правящее меньшинство. В работах ученых оно предстает не только как обладающая исключительной прерогативой на принятие политических решений, но и как неоднородная группа, находящаяся в регулярном согласовании внутриструктурных элементов между собой и внешними акторами (Моска, 1994: 196; Михельс, 2022: 42). Сформулированный Р. Михельсом «железный закон олигархии» описывает возможности различных групп в доступе к процессу формирования элиты и принятию политических решений (Михельс, 2022: 414).
Ограничения к нему рассматривали также Р. Миллс (Миллс, 1959) и Р. Арон (Арон, 1993). Исследователями обозначены три института сосредоточения элиты: государственный аппарат, бизнес-корпорация и армия. Отмеченная ими горизонтальная мобильность социальной группы и причисление к ней исключительного верхнего слоя иерархии послужили источником для исследований феномена клиентелизма и патрон-клиентских отношений (Афанасьев, 2000).
Особую роль в исследовании структуры доступа к центрам принятия политических решений играют работы критиков группового подхода Р.С. Линд, Х.М. Линд (Lynd, Lynd, 1937) и Ф. Хантера (Hunter, 1953). Результаты эмпирических исследований, проведенных ими в 1920–1930-х гг. в городе Мунси (Индиана, США) и в начале 1950-х гг. в городе Атланта (Джорджия, США) говорили о том, что политика в данных городах контролируется узкой и изолированной от населения группой: верхушкой городских политиков и чиновников, владельцев и представителей крупного бизнеса, без участия групп интересов (Ледяев, 2002: 114).
В российских исследованиях элиты особый подход к организации структуры доступа охарактеризован в исследованиях О.В. Гаман-Голутвиной и О.В. Крыштановской. О.В. Гаман-Го-лутвина выделяет страновые особенности в рекрутинге элиты в зависимости от институциональной структуры политических систем стран (Гаман-Голутвина, 2006: 12). О.В. Крыштановская представляет структуру доступа к центрам принятия политических решений через типологизацию внешней среды. Она выделяет два типа обществ: экономический и политический. В обществах первого структуру доступа определяет капитал, а основные акторы политических изменений – собственники. В обществах второго типа структура доступа зависит от сложившейся политической иерархии и распределения государственных ресурсов (Крыштановская, 2005: 40).
Структура доступа элитистского подхода складывается из ряда существенных аспектов:
-
– небольшая группа осуществляет распределение благ, оказывает довлеющее влияние на большинство секторов социальной жизни – промышленность, финансы, политику, воздействие масс на принятие политических решений и на элиту минимально;
-
– власть персонифицирована и формируется из распределения ролей между персоналиями небольшой группы внутри системы взаимодействия;
-
– структура власти сохраняется вне зависимости от частных регулярных изменений в политической системе;
-
– переход из массы в элиту осуществляется спустя продолжительное время, исключительно после принятия кандидатом ряда правил, отражающих консенсус сохранения политической системы в обеспечивающих господство элиты параметрах;
-
– взаимодействие корпораций и государства – часть внутримежэлитарных коммуникаций, каждая бизнес-структура имеет своего представителя в иерархии элиты, от которого зависит ее доступ к принятию политико-управленческих решений (Ашин, 2001: 95).
Особым условием обеспечения влияния в элитистском подходе является то, что Д. Мей-зель назвал принципом трех «С»: «сознание», «сплоченность», «сговор» (conscience, cohesion, conspiracy). Он характеризует элиту как сплоченную, непубличную группу, обладающую общностью целей (Meisel, 1958). Влияние на принятие решений широкого круга заинтересованных лиц интерпретируется в понятии клиентилизма. Клиент-патронские отношения выстроены в иерархию, где вертикаль служит инструментом подготовки, согласования и реализации решения (Афанасьев, 2000).
Однако акцентирование на узких элитных группах не позволяет исследователю учитывать все многообразие интересов и агентов. Сама элита, несмотря на свою корпоративную структуру, может содержать в себе множество отличных друг от друга интересов. В то же время система государственных органов содержит ряд ведомств, служб, способных равноценно влиять на принятие решения в пользу как одной, так и другой стороны.
Иные акценты расставлены при изучении взаимодействия государства и бизнес-корпора-ций в рамках группового подхода.
Одним из первых участие групп в политике систематическим образом описал Дж. Мэдисон. Вторя своим современникам, выдающийся конституалист признавал деструктивное влияние политических объединений. Однако наравне с этим он говорил и о неизбежности формирования подобных объединений (Madison, 1987). Признав естественность таких процессов, чьи причины лежат в самой природе человека, Дж. Мэдисон поставил вопрос об эффективной интеграции таких групп в демократическую систему правления.
Само понятие «группы интересов» ввел в оборот А. Бентли. Под группой в своих исследованиях он понимает часть членов общества, массовую деятельность с целью реализации интереса, не исключающую участия в других групповых деятельностях. «Общество есть совокупность групп, которые его формируют» (Bently, 1908). Благодаря его концепции в научном сообществе началось формирование группового подхода к политике, интерпретирующего ее как взаимодействие заинтересованных групп, преследующих свои интересы. Политические решения перестают быть прерогативой только официальных государственных институтов власти, а становится результатом компромиссов противостоящих групп. При этом государство, его структуры и ведомства также являются группами, которые влияют на все остальные. Ключевой функцией таких политико-административных институтов является регуляция конфликтов и установление равновесия между соперничающими группами. Консенсус, вырабатываемый в ходе их взаимодействия, является наиболее стабилизирующим общество фактором (Bently, 1908).
Групповой подход к пониманию политики был существенно развит профессором Колумбийского университета Д. Трумэном. Он применил в его рамках новый термин – «политические группы интересов», указывая, что социальные объединения в большинстве случаев воздействуют на власть. Исследователь концептуализировал идею равновесия в политике, предложив модель государственного управления, которая в каждый отдельный момент времени представляет собой «многообразный комплекс пересекающихся связей, которые меняются в зависимости от власти и положения интересов. В данной модели имеется баланс интересов, сил и ресурсов, однако формирование новых групп или усиление старых приводит к его нарушению. Дисбаланс вызывает рост групповой активности, в результате чего достигается новое групповое равновесие. Важным фактором является перекрестное членство, которое понижает сплоченность и радикализм каждой группы и заставляет их группы интересов сочетать свои требования с интересами других групп (Truman, 1967).
Другой американский политолог, профессор Амхертского колледжа Э. Латэм предложил интеграционную концепцию, в которой государственные группы интересов (официальные группы) рассматриваются не просто как средство установления, но и как то, что имеет собственную субъектность, содействуя формулированию и реализации нормативных целей и воздействуя на внутреннюю структуру и факт существования самих групп интересов вообще. Межгрупповая борьба ведется во вселенной официальных и неофициальных групп. И эти вселенные являются одним целым (Latham, 1952).
Труды Дж. Мэдисона, А. Бентли, Д. Трумена и Э. Латэма сформировали концептуальную основу группового подхода к изучению политики:
-
– общество формирует совокупность интересов;
-
– борьба групп интересов формирует политический процесс;
-
– в результате взаимодействия групп интересов появляются властные решения.
Плюрализм стал развитием группового подхода и интеллектуальным ответом на элитист-ский подход. Начало ему положило эмпирическое исследование социально-политических процессов города Нью-Хейвен Р. Даля. Несмотря на неравенство ресурсов, граждане в нем оказывали существенное косвенное влияние на принятие властных решений путем участия в выборах, результаты которых интерпретировались лидерами как выражение общественных приоритетов, учитывающихся при выработке курса. Монополия на принятие властных решений не сложилась в силу отсутствия концентрации ресурсов в руках одной группы, и власть осуществляли небольшие группы лидеров, меняющиеся в зависимости от сферы и характера решаемых проблем, а также ресурсов (Dahl, 1961).
Продолжением плюралистической модели взаимодействия групп интересов стал неоплюрализм. М. Олсон на основе политико-экономического анализа деятельности групп интересов пришел к выводу, ставящему под вопрос основной постулат плюрализма о рациональной и эффективной экономике на основе всесторонних переговоров между всеми группами интересов. Он раскрыл деструктивную роль групп интересов, деятельность которых направлена не на увеличение продукта, а на перераспределение дохода, что ведет к снижению экономического благосостояния и порождает отрицательные изменения в политической сфере. Также М. Олсон вывел корреляцию между размером группы и ее эффективностью с точки зрения реализации политических интересов (Олсон, 1995).
Иной взгляд на деятельность групп интересов предложил Г. Беккер. Положения, которые он выдвигает, в некоторой мере восстанавливают позиции основного тезиса теории о том, что организованный в соответствии с принципами плюрализма политический процесс в конечном итоге ведет к оптимальному согласованию и выработке наиболее эффективной государственной политики. В своей работе ученый вводит понятие «омертвелых издержек», которые образуются из-за разницы непроизводственных трат на трансферт ресурсов и политическое давление. В результате величина «омертвелых издержек» позволяет говорить, что «политически успешные программы являются относительно дешевыми по сравнению с другими, которые оказываются слишком дорогостоящими, чтобы получить политическую поддержку» (Беккер, 2003: 360). В конечном итоге вероятность принятия в результате межгрупповой конкуренции властного решения, которое повысит экономическую эффективность, оказывается больше.
Другим примером продолжения плюралистической модели выступает теория множественности элит Т. Лоуи. Не опровергая основной тезис плюралистической теории о множестве групп интересов, он говорит об ограниченности потенциала влияния, не обладая рычагом влияния в органах власти (Lowi, 1967: 22).
Теорию множественности элит развивает Э. Шатшнайдер. Он пишет, что «недостаток плюралистического рая состоит в том, что небесный хор поет с сильным акцентом высшего класса» (Schattschneider, 1960). Анализируя систему представительства, ученый установил, что значение и роль групп интересов в политике обратно пропорционально зависят от состояния партийной системы. Чем слабее функционирует партийная система, тем сильнее становится влияние заинтересованных групп на процесс, и наоборот (Schattschneider, 1960).
Плюралистическая модель взаимодействия государства и бизнес-корпораций неразрывно связана и обоюдно обусловлена демократическим политическим режимом. Независимое существование групп интересов и оптимальное межгрупповое взаимодействие, обеспечивающее максимизацию общественного благосостояния, детерминируются работой институтов либеральной демократии. Они служат конструктивным началом плюралистической модели формирования государственной политики. Это – в первую очередь, процедурный консенсус по поводу порядка принятия политических решений (Павроз, 2016: 70).
Установление такой процессуальной модели политики является следствием исторического развития современных западных стран по пути демократии. Ф.Р. Анкерсмит говорил, что политическая борьба в них постоянно приводила к ситуации, в которой группа интересов, обладающая суверенным контролем, использовала всю силу государства против конкурирующих групп. Подобная ситуация порождала перманентные гражданские войны в Европе. Плюралистическая модель, основанная на репрезентативной парламентской демократии, стала выходом из череды конфликтов. Подобное политическое устройство обеспечило мирное сосуществование враждующих групп и выработало устойчивые механизмы формирования консенсусного политического решения (Анкерсмит, 2004: 25). Все страны, в которых доминирует плюралистическая модель, на этапе становления прошли через три ключевых параметра данной модели:
-
– призвание свободы существования всего разнообразия социальных групп: религиозных, деловых, этнических и др.;
-
– гарантия возможностей отстаивания политических интересов для всех групп;
-
– использование ресурсного потенциала государственной власти в процессе борьбы конкурирующих групп ограничено.
С точки зрения институционально-правовых основ власть в данной модели ограничена и не только служит гарантом обеспечения первоочередных прав, но также и рассеяна. Власть не-иерархична, соревновательна и рассредоточена между всеми социальными группами, образующими общество. В результате политические институты публичной политики лишь фиксируют итог взаимодействия этих групп, а государственная политика является прямым следствием интеракций множества групп, включенных в политический процесс (Павроз, 2016: 78).
Политические институты выступают в качестве селективного механизма осуществления наиболее сбалансированной и максимально приемлемой государственной политики. Ч.Э. Линдблом писал по этому поводу: «Все основополагающие политико-экономические институты полиархических структур являются взаимодействиями, заменяющими собой применение анализа в качестве исключительного метода выработки решений: такова частная собственность, конституционное правление, полиархия, группы интересов, политические структуры, а также процессы взаимодействия – трехсторонние комиссии, законодательные органы, суды. Все они выполняют функции вычислительных механизмов для данного общества. Они представляют собой процессы и процедуры, с помощью которых принимаются решения без проведения диагностических исследований в поисках правильных решений» (Линдблом, 2005: 150).
Утверждение плюралистической модели возможно только в условиях всеобщего принятия «правил игры» социально-политического взаимодействия в обществе по поводу формирования государственной политики. Вместе с абстрактными ценностями, такими как свобода, демократия и т. д., политические группы интересов вынуждены принимать конкретные нормы, проистекающие из абстрактных ценностей и регламентирующие очень широкий круг вопросов. Плюрализм предполагает жесткие ограничения, которые служат гарантом эффективного механизма выработки государственной политики. Поэтому она может быть реализована далеко не во всех социально разнообразных общностях. Также не все плюралистические политические системы могут гарантировать заявленное теорией равновесное представительство интересов, соответственно, подобное диспропорциональное представительство ведет к выработке неоптимальных решений, неверно отражающих баланс интересов в обществе (Павроз, 2016: 81).
-
Ч .Э. Линдблом в данной ситуации выделял несколько оснований для неравенства групп:
-
– уровень богатства – возможность нанять организацию поддержки, специалистов, доступ к средствам массовой информации и т. д.;
-
– уровень организованности – сплоченные и организованные группы интересов добиваются больших выгод за счет прочих;
-
– уровень инкорпорированности во властную систему – группы, уже обладающие властным положением, имеют больше возможностей для расширения своего влияния (Линдблом, 2005: 179).
-
Р . Даль признавал возможность складывания имбалансной системы распределения влияния: «Если, например, одни интересы могут быть аккумулированы в организации с их ресурсами, а другие – нет, то такой образец будет способствовать поддержанию неравенства среди граждан, и некоторые из видов того неравенства могут быть несправедливы» (Dahl, 1961).
Признание диспропорционального представительства разделило сторонников плюралистической модели на тех, кто считал такое имбалансное искажение в пользу обеспеченных ресурсами групп не только неизбежным, но и поддерживающим социальную стабильность, и на тех, кто признавал необходимым радикальное изменение условий политической конкуренции с целью приведения модели к изначальным положениям плюрализма. Несмотря на это все, сторонники плюралистической доктрины считают, что данная модель представляет собой наиболее эффективную систему формирования государственной политики (Павроз, 2016: 90).
Плюралисты и неоплюралисты изучали политические процессы и группы интересов в них с точки зрения многообразия участников политического процесса и их конкуренции, равноудаленности акторов от центра принятия властных решений. Плюрализм и неоплюрализм создавались в США на основе американского опыта, однако не для всех политических систем и не для каждого института лоббизма характерны такие конфигурации. Поэтому большое распространение получили альтернативные подходы в изучении взаимодействия групп интересов – корпоративизм и неокорпоративизм.
Первому из названных Ф. Шмиттер дает такое определение: «Система представительства интересов, в которой основные составляющие организованы в ограниченное число отдельных, обязательных, неконкурирующих, иерархически упорядоченных и функционально дифференцированных категорий, признанных и зарегистрированных (если не созданных) государством и наделенных представительной монополией внутри этой категории в обмен на осуществление контроля над отбором лидеров и выражение требований и поддержки» (Шмиттер, 1997: 15). К отличительным чертам корпоративизма относятся:
-
– центральная роль государства в селекции групп, создании новых, а также в определении направлений функционирования системы;
-
– недостаток конкуренции между группами интересов;
-
– отсутствие независимой воли у тех из них, которые включены в систему представительства. Мощнейшую теоретическую поддержку корпоративизм получил в конце XIX – начале XX вв. Идеи данного течения приобрели наибольшую популярность в первой половине XX века, и нашли применение во многих странах Европы: Италии, Португалии, Австрии, Испании, Германии. В действительности авторитарный корпоративизм не соответствовал заявленным идеалам и часто использовался для реализации контроля за предпринимателями и трудящимися.
-
Л . Дюги в своей работе «Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства» (1906) изложил свою идею единения, солидарности классов в противовес антагонизма классов в качестве основного приоритета (Дюги, 2015: 80).
Результаты Второй мировой войны подорвали позиции корпоративизма и большинство государств такого типа подверглись трансформации, однако во многих странах, без обозначения соответствующим термином, продолжали существовать корпоративистские элементы. В качестве таких Ф. Шмиттер называет:
-
– монопольное представительство интересов;
-
– иерархическую организацию ассоциаций;
-
– не всегда добровольное участие в ассоциациях;
-
– склонность объединений играть активную роль в выявлении и формировании групповых интересов;
-
– возможность государства способствовать определению, поощрению, регулированию деятельности ассоциаций (Шмиттер, 1997: 18).
Перечисленные особенности обеспечили развитие новой концептуальной модели демократического корпоративизма – неокорпоративизма. При сохранении принципов формирования политики в пределах тесного и закрытого взаимодействия между крупнейшими группами интересов и государственными структурами группы получили большую свободу действий, добровольность участия в ассоциациях, а роль государства, основополагающая и директивная, уменьшилась.
Г. Лембурх, теоретик нового течения, придает корпоративной системе функции отбора и ангажирования группы интересов путем привлечения их к прямой реализации механизмов власти (Lehmbruch, 1977). Он отмечает, что влияние на центры принятия политических решений является результатом взаимодействия между государством и ограниченным количеством иерархично выстроенных групп интересов. По результатам этого взаимодействия формируется решение, учитывающее приоритеты всех акторов. Они прочно встроены в процесс принятия политических решений на основе принципа разделения труда (Шмиттер, 1997: 17).
Формы взаимодействия групп интересов и государства, присущие неокорпоративизму, легли в основу системы выработки государственной политики – корпоративистской модели. Она полярна плюралистической концепции и наиболее полно раскрывается в противопоставлении ей.
В отличие от плюралистической модели, в корпоративистской выработка и реализация государственной политики происходят в процессе институционализированного иерархического взаимодействия между государством и ограниченным числом крупных, систематизированных групп интересов. Государство, часто сознательно, вписывает данные группы в правительственный процесс, формируя монополии на представительство интересов, и не только выступает арбитром, поддерживающим правила игры, но и является ключевым актором, влияющим на состояние и наполнение групп.
Как и плюралистическая, корпоративистская модель включает в себя сложную дифференцированную структуру политических интересов, однако подразумевает ограниченное количество иерархически организованных, функционально упорядоченных групп интересов, сопряженных с институтами государственного управления.
Г. Лембрух сравнивал плюралистическую и корпоративистскую концепции, как «хаос конкурирующих между собой групп интересов» и систему, которая «как бы сама отбирает и ангажирует» их, «не только вступая с ними в контакт, но и привлекая их в качестве прямых участников механизма власти» (Lehmbruch, 1977).
Ф. Шмиттер так определял корпоративистскую модель: «Система представительства интересов, составные части которой организованны в несколько особых, иногда принудительных, неконкурентных, иерархически упорядоченных, функционально различных разрядов, официально признанных или созданных государством, наделяющим их монополией на представительство в своей области в обмен на известный контроль над подбором лидеров и артикуляций требований и приверженностей» (Шмиттер, 1997: 17).
Такая модель предполагает разделение политической системы страны на обособленные сегменты и формирование, реализацию государственной политики внутри этих сегментов. При этом политический процесс является бесконфликтным, тогда как формирование государственной политики, касающейся нескольких сегментов системы, осуществляется в условиях острой конкуренции и является закрытым процессом торга между государством и группами интересов. Однако даже в такой ситуации выработка централизованной политики отличается большим уровнем единодушия конкурирующих сторон в сравнении с плюралистической концепцией. Их отношениям свойственен высокий уровень институциализации. Примером служит система трипартизма, развитая и функционирующая в ряде стран Западной Европы, включающая в себя сотрудничество ассоциаций наемных работников, работодателей и специализированных государственных органов для регулирования трудовых и экономических вопросов.
Вместе с тем подобный уровень согласия и интеграции между институтами государственного управления и институционализированными группами интересов порождает вопросы о соотношении корпоративизма и демократии, и тех преимуществах, что дает демократический режим.
Государственная политика, сформированная в результате таких отношений, не всегда достоверно отражает все разнообразие политических и социальных интересов, так как чиновники, являющиеся в данной модели активными акторами, предпочитают проводить интересы доминирующих групп, чем учитывать приоритеты всего общества или не обладающих ресурсным потенциалом групп. При реализации корпоративистской модели возникают предпосылки складывания ситуации доминирования наиболее организованных элитных групп ключевых отраслей экономики, благодаря не только ресурсному преобладанию, но и формальному ограничению участия со стороны государства (Павроз, 2016: 120).
Ф. Шмиттер в своих работах признавал, что в корпоративистской модели можно найти элементы недемократичности:
-
– организация подменяет индивида как основного актора политического процесса;
-
– ограниченное количество участников имеют привилегированное положение в представительстве интересов;
-
– наблюдается возвышение монополий над конкурирующими друг с другом посредниками с частично совпадающими сферами охвата;
-
– осуществляется подрыв автономий специализированных организаций всеобъемлющими (общенациональными) иерархиями (Шмиттер, 1997).
Однако американский политолог отрицает негативное влияние корпоративистской модели на развитие демократии, говоря: «Страны, дальше других продвинувшиеся по пути корпоративизма, являются более управляемыми, что, однако, не делает их более демократическими» (Шмиттер, 1997). Он указывает на то, что в странах с подобной моделью функционального представительства регулярно проводятся конкурентные, состязательные выборы, в полном объеме гарантируются и сохраняются гражданские права и свободы, органы власти несут полную ответственность за проводимую ими политику, которая формируется, учитывая запросы граждан.
Более того, по словам Ф. Шмиттера, за счет пропорционального распределения ресурсов между ограниченным количеством организаций, представляющих широкие категории интересов, и формального обеспечения равенства доступа к принятию решений корпоративная модель функционального представительства дает своим участникам больше свободы, чем плюралистическая, отягощенная неравным распределением организационного, административного и экономического ресурса. Кроме того, прямое включение ассоциаций в разработку государственной политики делает политическую систему более чувствительней к гражданским запросам. Современная корпоративистская модель не только включает в себя демократические ценности, но и признает их важнейшими в развитии политической системы (Шмиттер, 1997: 20).
Противопоставление плюралистической и корпоративистской модели носит идеально-типичный характер. В большинстве политических кейсов формирование государственной политики осуществляется при сочетании этих двух концепций. Одни области политики регулируются корпоративистскими механизмами, другие – плюралистическими, одни группы давления предпочитают обращаться к плюралистическим подходам, другие – к корпоративистским. Однако одна из моделей может доминировать в политическом процессе страны.
Иные аспекты в проблеме доступа к центрам принятия политических решений предоставляет институциональный подход. В нем методы микроэкономического анализа распространены и на политические явления.
В рамках подхода, начало которому положили работы американских экономистов Р. Коуза (Коуз, 1995) и Д. Неша (Nash, 1950), взаимодействие между политическими акторами осуществляется на основе рационального оптимизирующего поведения в контексте рынка по формальным и неформальным нормам – институтам, «институциональной матрице», которые обуславливают характер возникающих на политическом рынке игроков и характера их взаимодействия, а основной проблемой доступа являются транзакционные издержки, то есть сверх операционных затрат. В контексте институционального подхода особое место занимает эффект институциональной колеи – самовоспроизводящегося неэффективного института, который несет в себе отягощающий потенциал для всех участников, кроме тех, в чьих интересах он был создан.
Собственный подход к изучению взаимодействия бизнеса и государства формирует теория политических сетей.
Взаимодействие в политической системе и влияние на центры принятия политических решений осуществляются благодаря заинтересованности в обмене ресурсами между участниками формальных и неформальных связей – конкретными персоналиями. Сетевая структура взаимодействия предполагает горизонтальный характер отношений, что в свою очередь дает иной взгляд на роль государства в организации взаимодействия и государственное управление1.
Подводя итог, можно сказать об общей черте указанных подходов – это стремление к упорядочиванию форм влияния на принятие и реализацию политических решений посредством алгоритмов и принципов взаимодействия и согласования.
Во многом разница в подходах зависит от закрепленных в определенной политической среде возможностей доступа представителей крупных бизнес-организаций к центрам принятия и механизмам исполнения политических решений, ограничениям во взаимодействии, установленным преобладающим политическим режимом, шириной спектра участников взаимодействия и вовлеченностью органов государственной власти в получение и перераспределение ренты.
Выбор также зависит от протяженности исследуемого явления во времени и от уровня принятия решения, локализации проблемы. Элитистский подход позволяет прогнозировать развитие событий на наиболее продолжительный период в силу устойчивости положения элит. Неоинсти-туциональный и групповой подходы дают возможность экстраполировать результаты исследований на среднесрочный и долгосрочный периоды. В первом случае гарантом длительного действия являются институты, изменение которых происходит в течение нескольких поколений. Во втором – устойчивость ассоциаций и их юридическое закрепление в системе с кадровым, финансовым и политическими ресурсами. Сетевой же подход позволяет сделать «моментальный кадр» связей без возможностей долгосрочного прогнозирования.