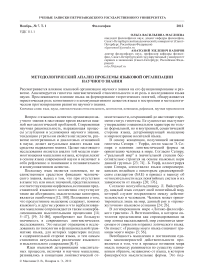Методологический анализ проблемы языковой организации научного знания
Автор: Маслиева Ольга Васильевна, Назиров Анатолий Эзелевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7 (128) т.1, 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается влияние языковой организации научного знания на его функционирование и развитие. Анализируется гипотеза лингвистической относительности и ее роль в исследовании языка науки. Прослеживается влияние языка на формирование теоретических понятий, обнаруживается эвристическая роль когнитивного и коммуникативного аспектов языка в построении и методологическом прогнозировании развития научного знания.
Язык, наука, лингвистическая относительность, когитология, понимание, рефлексия, научная терминология
Короткий адрес: https://sciup.org/14751377
IDR: 14751377 | УДК: 111.1
Текст статьи Методологический анализ проблемы языковой организации научного знания
Вопрос о языковых аспектах организации научного знания в настоящее время является важной методологической проблемой. Современная научная рациональность, выражающая процессы углубления и усложнения научного знания, тенденцию утраты им свойств наглядности, развитие интегративных и диалоговых отношений в науке, делает актуальным анализ языка как средства выражения знания. Целью настоящего исследования является анализ той модели взаимоотношения мышления и языка, которая лежит в основе языка современной науки и включает в себя рефлексию и понимание в познавательном и коммуникативном аспектах.
Поскольку язык является основным, но не единственным средством фиксации человеческого знания, вывод о том, что при отсутствии в языке тех или иных значений, представленных соответствующими морфемами, в сознании представителей языкового коллектива отсутствуют такие же абстракции, мыслительные категории, является ошибочным [12; 100]. Положения о том, что продуктивное мышление содержит, помимо языкового, и другие уровни и что вербализованное мышление сопровождается также и невербализованными мыслительными процессами [14; 5–47], [19; 34–86], приобретают все большую значимость в современных лингвистических исследованиях. Это находит отражение в исследованиях по типологии и функциональной грамматике языка, для которых характерен подход к содержательной стороне языка, и тем самым становится актуальным различение языкового и мыслительного содержания [8; 4].
Идеи языковой детерминации мыслительных процессов, включая и научное мышление, развивались в концепции лингвистической от
носительности, сохранившей до настоящего времени статус гипотезы. Ее сущностью выступает утверждение о национальном характере не только формальной, но и внутренней, семантической стороны языка, детерминирующей мышление и мировоззрение носителей языка.
В основу концепции, получившей название гипотезы Сепира – Уорфа, легли мысли Э. Сепира о влиянии лингвистической формы на ориентацию человека в мире. Согласно Сепиру, «“реальный мир” в значительной степени бессознательно строится на основе языковых норм данной группы» [23; 74] . Б. Уорф, иллюстрируя идеи Сепира, сопоставлял языки североамериканских индейцев с некоторым среднеевропейским стандартом (SAE) и пришел к выводу об «относительности всех понятийных систем и их зависимости от языка» [20; 176].
Согласно неогумбольдтианцу Л. Вайсгербе-ру, каждый язык создает свой понятийный мир, который служит посредником между действительностью и человеком. Человек может ориентироваться лишь на мир, данный ему в «промежуточном» языковом сознании [24; 26].
В логизированном мире «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна, в котором онтология представлена как спроецированная на мир логика высказываний, мир становится зависимым от символов и правил логического языка. Он пишет: «Границы моего языка означают границы моего мира» [5; 56].
Всеобщность мышления в постижении единых закономерностей действительности проявляется в том, что в процессе познания мира мысль повсюду развивается по существу одинаковым образом, независимо от языка, в котором фиксируются мыслительные формы. Это под- тверждается анализом истории языкового выражения понятия причинности как существенного компонента научного объяснения и прогнозирования. Принцип причинности, тесно связанный с пониманием пространственно-временных отношений, в наибольшей мере подвергся модернизации в современной физике в связи с проблемой скрытых параметров в квантовой теории поля. В этом отношении интересно было обнаружить определенную «коэволюцию» причинных, пространственно-временных и других представлений, исследуя материал различных языков, принадлежащих к разным группам и семьям. Этот материал, указывая на общность содержания истоков категории причинности в мышлении разных народов и дальнейшую однотипную эволюцию содержания этого понятия, показывает выраженную в разных языках связь формирующегося понятия причинности с представлениями о пространстве, времени и цели [10; 16–38, 60–80].
Язык как важнейшее средство познания, фиксируя в значениях своих единиц результаты деятельности сознания и направляя познавательный процесс, не накладывает ограничения на развитие мышления: он развивается, гибко подстраивая и меняя свои формы для выражения нового мыслительного содержания. В научном познании это проявляется в формировании новой терминологии и ее введении в теоретическое познание, в выборе «языкового каркаса» для оформления научной картины мира.
Следует заметить, что недостаточность инвентаря одного языка по отношению к другому, связанная с особенностями категоризации, может быть частично компенсирована в речи, а также при переводе текстов посредством комбинаций различных языковых единиц и контекстного выявления значений. Сравнительный анализ переводов показывает возможность достаточно адекватной передачи содержания не только простого нарратива, но и высокохудожественного текста [22; 15].
Вместе с тем нельзя согласиться полностью с мнением о полной переводимости категорий с одного языка на другой (В. А. Звегинцев и др.). Пример анализа лексико-семантического поля категории причинности, играющей важнейшую роль в теоретическом познании, показывает смысловые расхождения, которые могут возникать при переводе [19; 112–114].
В настоящее время для проверки гипотезы Сепира – Уорфа может быть привлечена теоретическая и эмпирическая база проблемы перевода, который «предстает не только как посредник в межкультурном и межъязыковом обмене, но и как условие возможности любого познания в социальной и гуманитарной области» [1; 71]. Для выявления инвариантного содержания мышления и его культурно-исторических особенностей полезно обратить внимание на линг- воэпистемологические аспекты теории культурно-исторических концептов (А. Вежбицка, Дж. Лакофф, Ю. С. Степанов и др.).
В. Гумбольдт, рассматривая языковой коммуникативный процесс, развивает мысль о подвижности и многозначности понятий, которая выступает следствием воздействия на получателя относительно стабильной информации, заключенной в языковых элементах, в частности в слове. Как в духе романтизма отмечает В. Гумбольдт, «слово... не несет в себе чего-то уже готового, подобно субстанции, и не служит оболочкой для законченного понятия, но просто побуждает слушающего образовывать понятие собственными силами, определяя лишь, как это сделать. Люди понимают друг друга... потому, что взаимно настраивают друг в друге одно и то же звено чувственных представлений и начатки внутренних понятий, прикасаются к одним и тем же клавишам инструмента своего духа, благодаря чему у каждого вспыхивают в сознании соответствующие, но не тождественные смыслы. Лишь в этих пределах, допускающих широкие расхождения, люди сходятся между собой в понимании одного и того же слова» [7; 165–166].
С позиций возникшей в последней трети ХХ века когнитологии суть коммуникации состоит в построении в когнитивной системе реципиента концептуальных конструкций, «моделей мира», которые определенным образом соотносятся с «моделями мира» говорящего, но не обязательно повторяют их. Вместе с тем язык рассматривается как эффективное средство введения в когнитивную систему реципиента концептуальных конструктов, часто помимо сознания получателя. Концепты функционируют внутри сформированной концептуальной схемы в режиме понимания – объяснения.
В процессе понимания постоянно происходят переходы от целого к части и от части к целому, для того чтобы «концентрическими кругами расширить единство понятого смысла» [6, 345] от предпонимания (чаще всего – нерефлексивного мнения) к все более осознанному знанию. Теория речевых актов Дж. Остина и Дж. Сёрля, дополняя герменевтику, дает возможность в процессе интерпретации учитывать не только дискурс, но и такие виды речевых актов, в которых выражаются вопрос, оценка, приказ, убеждение и т. п., что должно способствовать расширению горизонтов понимания.
Процесс понимания имеет свою специфику как в обыденном и теоретическом познании, так и в различных науках. Научное познание, в отличие от обыденного, использует термины – слова или словосочетания, обозначающие эмпирические или абстрактные объекты, значение которых уточняется в рамках научной теории. В качестве научных терминов могут быть использованы как слова и словосочетания естественного языка с измененной семантикой в соответствии с контекстом исследовательских задач, так и специально созданные слова и выражения, а также знаки (символы) формализованных языков, в которых с максимальной полнотой реализуется требование к информационной однозначности термина. При этом, если гуманитарные науки нагружены словами и выражениями, фиксирующими ценностно ориентированные понятия («смысл жизни», «мотивы», «цели» и т. п.), допускающими возможность их различных интерпретаций, то логика, математика и точное естествознание, в которых основной познавательной целью является объяснение, организованы как однозначно истолковываемое знание с наиболее строгим терминологическим оформлением [11; 372–373].
Рассматривая развитие науки в широком социокультурном контексте, П. Фейерабенд пытается развить точку зрения Б. Уорфа, считающего, что время, скорость и материя несущественны для построения стройной картины мира, и утверждающего, что люди организуют природу в понятия и приписывают словам значения во многом потому, что согласны делать это именно таким образом. По Фейерабенду, из «принципа лингвистической относительности» следует вывод о том, что «существенно различные языки не только постулируют разные идеи для упорядочивания одних и тех же фактов, но постулируют также разные факты» [12; 448]. Согласно этому принципу, люди, пользующиеся заметно разными грамматиками, направляются ими к наблюдениям различных типов и к разным оценкам внешне сходных актов наблюдения, в связи с чем они не являются эквивалентными наблюдателями и должны приходить к различным представлениям о мире. Более строгая формулировка этого принципа содержит в себе новый элемент и говорит о том, что одни и те же физические свидетельства не приводят всех наблюдателей к одной и той же картине универсума, за исключением тех случаев, когда их лингвистические основания сходны или сравнимы. Это может означать «либо то, что наблюдатели, пользующиеся значительно различающимися языками, будут постулировать разные факты при одних и тех же физических обстоятельствах в одном и том же физическом мире, либо то, что они будут одинаковые факты упорядочивать разными способам» [21; 448–449]. При второй интерпретации опыт рассматривается как «единый резервуар фактов, который по-разному классифицируется различными языками» [21; 449]. Эта интерпретация находит дальнейшее подтверждение в описании Уорфом перехода от «боязни пустоты» к современной теории. Согласно Уорфу, использование предложения «природа боится пустоты» для объяснения того, почему вода поднимается в насосе, ранее воспринималось как согласующееся с логикой. Однако сегодня оно представляется лишь проявлением особенностей некоторой тер- минологии. Уорф считает, что данное изменение не было вызвано открытием новых фактов, наука приняла новые лингвистические формулировки старых фактов, и теперь, когда ученые получили в свое распоряжение новые способы выражения, специфические черты старой терминологии больше не связывают их.
На отрицательное отношение к эвристической роли логики у таких постпозитивистов, как Т. Кун, П. Фейерабенд, С. Тулмин, Н. Хэнсон, повлиял ряд факторов, связанных с развитием языка науки, а именно: смена значения терминов при переходе от одной теории к другой, а также появление новых терминов, смысл которых недостаточно определенен [13; 72–79].
Роль логики в исследовании языка науки широко освещена в отечественной философской литературе. При этом намечено такое новое направление, как рассмотрение характера и типологии «изменения научных терминов в ходе становления теории» [17; 6]. Оно стало возможным лишь после предварительного детального изучения функционирования компонентов готового, ставшего научного знания, вскрытия роли эмпирической и семантической интерпретаций математических структур физики и построения общих концепций формирования теорий.
Семантика языковой системы науки составляет правила приписывания значений и смысла языковым выражениям, указывая, «именами каких объектов являются данные термины» [18; 10]. Смысл выступает инвариантом синтаксиса языка и определяет логическую семантику терминов. Прагматика есть совокупность черт свойств языковой системы, зависящих от их различного употребления, от практических потребностей человека.
Языковой аппарат новой теории «переводится» с языка исходных элементов, и при этом между моделью теории и формирующими ее элементами устанавливается взаимозависимость. Перестраивающаяся модель старой теории по отношению к новой становится умозрительной комбинацией, реализующей интертеоретическую интерпретацию. Старые термины, получающие новое значение, становятся теоретическими, а не получающие – спекулятивными. Аналогично обстоит дело и у новых терминов, судьба которых зависит от уточнения их значения, то есть от семантической интерпретации. В этом смысле представляется пока что неопределенной судьба таких терминов современной физики, как «тахион», «глюон», «фридмон», «кварк», «гравитон», «супергравитация» и др.
Система аксиом и правил вывода теорем, интерпретированных на физической модели, будучи логикой для физической теории, выступает языком теории математической. Логика математической теории есть язык символической логики, что объясняет невозможность как полного сведения математики к логике, так и полной формализации логической системы средствами этой системы. Стихийное осознание диалектики формы и содержания в исследованиях оснований математики проявилось, в частности, в развитии интуиционистской математики Л. Брауэра [16; 157–178].
Если будущей теории соответствует логика нечетких понятий и множеств, например концепция топосов, то ориентиром использования топосов может служить теорема Герока, утверждающая дополнительность логики и топологии. Эта теорема позволяет предложить методологический прогноз: «На начальных этапах построения теории мы жестко фиксируем логику и делаем переменной только топологию, после того же, как теория в основном построена, мы можем в определенных пунктах допустить и изменение логики» [2; 244]. С точки зрения данного прогноза существующая попытка объединения классической теории поля и современной теории элементарных частиц на основе синтеза супергравитации и теории кручений (преобразований, учитывающих кручение римановых многообразий) представляется достаточно тривиальной. Понятие «суперкалибровочные преобразования» логически интерпретируется в градуированной алгебре Ли и в унитарных группах бесконечномерных пространств Гильберта [3; 69–85].
Чисто логический прогноз новой теории, основанный на программе топосов, прежде всего сталкивается с такими трудностями, как ограниченность средств современной топологии рамками математического языка гомеоморфных преобразований. Однако введение понятия группы преобразований негомеоморфного типа, выполняющихся на некоторой топологической совокупности (множество топологически различных пространств), не укладывается в градуированные алгебры Ли. Решение этой проблемы лежит на стыке современной логики и топологии.
Спецификой математического языка является его наибольшая точность в системе научной терминологии. Ввиду большой абстрактности объектов математики (идеализированные объекты, представляющие собой абстракции от абстракций) в ней имеются «идеальные элементы» (Д. Гильберт), выступающие плодами работы с языком. Эти новые языковые конструкции могут увеличивать знание о конструктивных объектах.
Таким образом, методологический анализ языковых средств организации научного знания, основанный на модели взаимосвязи различных аспектов языка, позволяет не только произвести описание специфики языка науки, но и прогнозировать развитие языкового оформления научного знания.
Список литературы Методологический анализ проблемы языковой организации научного знания
- Автономова Н. С. Познание и перевод. Опыты философии языка. М., 2008. 704 с.
- Акчурин И. А. Топологические структуры физики//Физическая теория: философско-методологический анализ. М., 1980. С. 226-245.
- Бергман Петер Г. Единая теория поля: вчера, сегодня, завтра//Проблемы физики: классика и современность. М., 1982. С. 69-86.
- Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. М., 2007. 207 с.
- Витгенштейн Л. Логико-философский трактат//Витгенштейн Л. Философские исследования. М., 1994. С. 1-73.
- Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. 699 с.
- Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества//Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 37-298.
- Климов Г. А. Принципы контенсивной типологии. М., 1983. 224 с.
- Маслиева О. В. Роль языковых средств в организации научного знания//Философия и академическая наука. Вып. 5. СПб., 2009. С. 371-373.
- Маслиева О. В. Становление категории причинности (на материале истории языка). Л., 1980. 105 с.
- Маслиева О. В. Языковой анализ в исследовании причинности//Детерминизм. Причинность. Организация. Л., 1977. С. 107-115.
- Маслиева О. В., Насилов Д. М. К соотношению объективной действительности, логики и языка//Логика и язык. М., 1985. С. 96-101.
- Мухаммедов А. Х. О языковой ситуации в современной физике//Логика и физика. Свердловск, 1975. С. 72-79.
- Мышление: процесс, деятельность, общение. М., 1982. 287 с.
- Назиров А. Э., Маслиева О. В., Жаворонков И. Н. Сравнительный анализ переводов поэтических символов произведения Ф. Ницше «Так говорил Заратустра»//Поэтика Ницше. СПб., 2010. С. 114-143.
- Панов М. И. Философские основания интуиционистской математики//Философские (методологические) семинары: Проблемы развития. М., 1983. С. 157-178.
- Петров В. В. Семантика научных терминов. Новосибирск, 1982. 126 c.
- Петров Ю. А. Математическая логика и материалистическая диалектика: Проблемы логико-философских оснований и обоснования теории. М., 1974. 191 с.
- Тихомиров О. К. Психология мышления. М., 1984. 272 с.
- Уорф Б. Л. Наука и языкознание//Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960. С. 169-182.
- Фейерабенд П. Против методологического принуждения//Избранные труды по методологии науки: Пер. с англ. и нем. М., 1986. С. 125-464.
- Шадрин В. И. Методологические проблемы исследования процесса перевода//Университетское перево доведение. Вып. 9. Материалы IX междунар. науч. конф. по переводоведению «Федоровские чтения». 18-20 октября 2007 г. СПб.: СПбГУ, 2008. C. 447-453.
- S арir E. Conceptual categories in primitive languages. Science, 1931. 578 p.
- Weisgerber L. Das Gesetz der Sprache als Grundlage des Sprachstudiums. Heidelberg, 1951. 201 p.