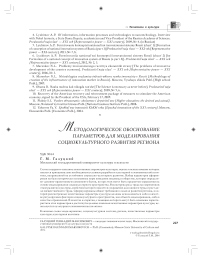Методологическое обоснование параметров для моделирования социокультурного развития региона
Автор: Галуцкий Геннадий Максимович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Экономика и культура
Статья в выпуске: 2 (58), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья содержит описание качественных параметров культуры, оценка и использование которых является принципиально необходимым условием разработки культурной и экономической политики, направленной на устойчивое социально-культурное развитие. Набор параметров сформирован на базе исторически осознанных норм поведения индивида в обществе, которые определяют духовно-нравственную компоненту бытия, но при этом могут быть предметом управления на основе моделирования социокультурного пространства. Рассмотрена роль труда на современном этапе развития культуры, свойством которого является сокращение доли живого труда и рост доли овеществлённого труда. Сформулированы общие требования к модели развития региона, в которой рассмотренные качественные параметры культуры должны использоваться либо в качестве регулируемых факторов социокультурного пространства, как объекта моделирования, либо в качестве ограничений. В качестве алгоритма, с помощью которого могут быть изменены характеристики этих параметров и достигнуты целевые значения качественных параметров культуры, используется культурная и экономическая политика.
Моделирование, социокультурная система, регион, качественные параметры культуры, культурная политика
Короткий адрес: https://sciup.org/14489703
IDR: 14489703 | УДК: 304.4
Текст научной статьи Методологическое обоснование параметров для моделирования социокультурного развития региона
Для системы управления, сложившейся в современной России, характерно несколько особенностей:
-
1) применение программно-целевого подхода для оперативного решения выявляемых проблем с разработкой отдельных программ, которые кажутся значимыми на определённый момент времени (например, программа развития села, программа обеспечения военнослужащих жильём, программа развития культуры и др.);
-
2) отсутствие централизованной вертикально интегрированной системы планирования и управления, которая могла бы обеспечивать согласование региональных программ и отвечать за результаты их реализации.
-
3) попытки раздельной разработки культурной, экономической и социальной политики в условиях сложно структурированного социокультурного пространства, политически ангажированных органов управления и отсутствия научно обоснованных методов оценки последствий от их реализации.
Перечисленные особенности являются следствием глубокой трансформации политических институтов государства, изменений в экономической и социально-культурной подсистемах общества. Отказавшись от идеологии марксизма в политике и экономике, Россия пытается заменить её методологией регулируемой рыночной экономики с элементами либерализма и политическим плюрализмом. И уже более 20 лет длится переходный период, создающий своеобразный фундамент для развития процесса дальнейшей модернизации России и каждого из её регионов. Будут эти процессы управляемыми или стихийными — зависит, прежде всего, от характера культурной и экономической политики.
Анализ событий, сопровождавших процесс трансформации, позволяет предположить, что одной из её причин стало несоответствие уровня развития производительных сил и ресурсной базы страны, но уже не характеру производственных отношений (как ут-вер ждал В. И. Ле нин), а потребностям населения страны в организации системы жизнеобеспечения, качеству системы управле- ния обществом и уровню культуры. На два последних фактора (уро вень управ ле ния и уро вень куль ту ры) и на их влияние на уровень жизни указывал ещё в 60—70 годах XX века академик АН СССР В.А. Трапезников [3], выводы и предложения которого не совпадали с идеологическими догмами — методологической основой системы управления общественным развитием. И поэтому не были приняты во внимание при разработке планов и программ развития экономики. В отношении к культуре в 1960—90-х годах в общественном сознании преобладало мнение о её вторичности, поскольку основным методологическим постулатом был лозунг «бытие определяет сознание».
Изменить это отношение могло бы новое научное направление «экономика культуры», которое стало формироваться в середине ХХ века в наиболее развитых странах. Но в силу теоретической слабости новая наука ещё не могла претендовать на сколько-нибудь заметную роль в экономической теории. К настоящему времени это уже довольно развитая научная дисциплина, которая не только способна предложить методологию для решения проблем социально-экономического и общекультурного характера, но и имеет для этого прикладные инструменты. Таким инструментом может стать моделирование социокультурной ситуации, в рамках которого культурная и экономическая политика рассматриваются не в отрыве друг от друга, а как две взаимообусловленные сущности бытия человека, который творит культурную деятельность и пожинает её результаты. Но человек — это не просто физиологическая единица или экономический агент, а активный субъект экосистемы, наделённый разумом и способностями одновременно познавать окружающее пространство, преобразовывать его и изменять собственную духовную сущность под влиянием перемен, происходящих в окружающем пространстве.
В процессе моделирования необходимо формализовать:
-
а) цели моделирования и
-
б) перечень параметров, включаемых в модель либо в качестве управляемых факторов, либо — ограничений модели.
Постулаты экономики культуры требуют: целевой задачей системы моделирования общественного бытия следует считать не погоню за прибылью, а изменение социокультурной ситуации, направленное на сбережение людей и рост культуры. Решающая роль при этом принадлежит людям, наделённым всем набором качественных параметров культуры1.
Каждый качественный параметр культуры отображает какое-либо конкретное свойство человеческой сущности. Их полная совокупность позволяет не только дать описание личной культуры индивида, но и смоделировать характер социокультурного сообщества, тенденции его развития.
Весь спектр качественных параметров культуры, которые должны учитываться при моделировании социокультурного пространства и формировании культурной и экономической политики, можно подразделить на четыре группы: 1) генетически обусловленные параметры, которые невозможно регулировать напрямую; 2) нормируемые социально обусловленные параметры; 3) параметры культуры с духовно-нравственной природой, изменяемые в процессе воспитания; 4) «цивилизационные» параметры.
Генетически обусловленные качественные параметры культуры базируются на инстинкте самосохранения. Первым из них является уровень гуманности человека, которая подразумевает человеколюбие, уважение к личности и добросердечность. Для абсолютного гуманиста характерны абсолютное неприятие насилия, готовность к самопожертвованию, способность контролировать собственные биологические инстинкты, управлять ими и даже полностью подавлять их в ущерб самому факту физического существования. Противостоят гуманности жестокость и агрессивность. Главенствующим качеством абсолютно жестокого индивида («недочеловека») является стремление к удовлетворению биологических инстинктов. Абсолютный гуманист и «недочеловек» создают рамки гуманности социокультурной системы. В этих рамках возможны различные варианты поведения. Теоретические расчёты показывают, что в популяции, насчитывающей один миллион человек, постоянно присутствуют около 600 индивидов, для которых смыслом жизни являются убийство, насилие, потребность получать удовольствие от мучений своих жертв [1]. Именно из этой группы выходят террористы и маньяки. Их количество постоянно или меняется с незначительной вариацией в рамках воспроизводимого генофонда. Но в составе популяции постоянно воспроизводится примерно такое же количество абсолютных гуманистов — тех, кто готов добровольно отдать свою жизнь за любого человека и даже своего врага, оставаясь при этом вполне психически полноценным и здравомыслящим. Кроме того, около 70 процентов индивидов способны к убийству людей, исходя из личного интереса или корысти, выполняя команду или находясь под давлением обстоятельств, спасая свою жизнь или жизнь близких ему людей. Достоверность этих теоретических расчётов подтверждают психологические эксперименты, которые описывает Д. Майерс [2, с. 292].
Вторым в перечне генетических качественных параметров культуры можно назвать альтруизм. Его физиологической основой является способность к созидательному труду, которая обусловлена набором соответствующих генов и устройством человеческого организма. Альтруизм — это поведение человека, который бескорыстно заботится о благополучии других и готов отказаться от своих выгод в пользу блага другого человека или в целом общества. Принцип альтруизма — «живи для других», но альтруизм не предполагает жертвования своей жизнью. Личная жертвенность альтруиста «запре- щена» инстинктом самосохранения. Признаком проявления альтруизма можно считать доб ро воль ную безвозмездную раздачу продуктов своего труда. При этом важно, что генетически обусловленная способность к тру ду, го тов ность тру дить ся и де лить ся его результатами — совсем не одно и то же. У всех людей потребность в труде является различной.
Один человек, обеспечивая своё существование, воспринимает труд как самоценность и способен к альтруизму в его крайнем появлении, когда он готов отдать другим все созданное своим трудом. Иногда даже в ущерб себе и своему благополучию. Другой стремится воспользоваться плодами усилий любого из тех, кто трудится. Его основная цель — нажива любой ценой. По общепринятому пониманию, человек, который любой ценой стремится к получению не созданных им самим благ, к наживе любой ценой, определяется как «стяжатель» . Это — антипод альтруиста. «Альтруист — стяжатель» — это вторая пара качественных параметров культуры, имеющих генетически обусловленную природу.
Теоретические расчёты показывают, что в обществе одновременно сосуществуют не более двух процентов абсолютных альтруистов, для которых труд является самоценностью и смыслом жизни, и примерно столько же — тех, кто отрицает труд вообще. Остальные составляют массив, в котором 95 процентов будут работать, если есть мотивы или стимулы. При этом в каждом человеке сочетаются в разной пропорции качества альтруиста и стяжателя — готовность отдавать и желание брать. Соответственно, в границах «альтруист — стяжатель» найдётся место для каждого человека в зависимости от индивидуальных потребностей в труде и готовности делиться результатами. Чем больше трудовых физических усилий и затрат энергии должен приложить человек в рамках своей программы жизнеобеспечения, тем меньше у него может быть желания отдавать другим плоды своего труда.
Именно представители этих 95% индивидов, которые одновременно обладают некоторым запасом гуманности или жестокости, и являются объектом моделирования социокультурной ситуации. В их отношении могут быть применены необходимые социализирующие воздействия, которые, в свою очередь, должны определяться при разработке и реализации культурной и экономической политики. Её целевой задачей должно стать формирование или изменение духовно-нравственных параметров индивидов и, при необходимости, корректировка социокультурных стандартов.
Группу социально обусловленных качественных параметров культуры составляют параметры, которые сформированы в процессе социализации человека, осознавшего за миллионы лет, что человек — это творение природы, наделённое высшим разумом, способное отличать добро от зла и обеспечивающее свою жизнь через труд . Популяция людей, существующих по животным инстинктам, превратилась в культуру, как двуединое сочетание биологических инстинктов и социальных законов. В процессе развития культуры сложились нравственные нормы, которые должен был соблюдать каждый человек при возникающих общественных отношениях. Эти нормы составили общечеловеческие ценности и задали условия «правильного» поведения в обществе себе подобных. Перечень этих норм дошёл до наших дней через книгу «Бытие» в качестве заповедей. Это своего рода «божественное» нормирование взаимоотношений между людьми: не делай себе ку ми ра; не уби вай; не пре лю бо дей ст вуй; не кра ди; не про из но си лож но го сви де тель ст ва на ближ не го твое го; не же лай до ма ближ не го твоего, не желай жены ближнего твоего, ни ра ба его, ни ра бы ни его, ни во ла его, ни ос ла его, ничего, что у ближнего твоего; почитай от ца твое го и мать твою, что бы про дли лись дни твои на зем ле; шесть дней ра бо тай, а седь мой по свя ти бо гу сво ему .
Это нравственные нормы. Они не являются продуктом биологических функций челове- ческого организма и его «гормональной начинки». Выработанные человечеством нравственные нормы являются чистым продуктом духовной сущности человека и концентрированным выражением духовной культуры. Наши далёкие предки заложили основу системы духовно-нравственных категорий, которые позволили представителю отряда животных — примату Homo erectus стать «Человеком». После них каждый родившийся индивид попадает в состав «окультуренной» популяции под целенаправленное воздействие на личность — воспитание. Приведённые выше «ветхозаветные заповеди» сформулированы тысячи лет тому назад и имеют мис-тически-религиозное происхождение. Но их можно признать социализирующей нормой и для современной культуры. Нравственно запретным является все, что подавляет волю человека, делает его зависимым: алкоголь, наркотики, лидеры тоталитарных сект, утрата собственной воли и безудержное стремление к обладанию вещами или деньгами (корысть), неконтролируемое (болезненное) стремление к азартным играм.
Заповедь «Не же лай до ма ближ не го твоего;…» в современной трактовке может быть выражена кратко: зависть . Зависть может возникать по самым разным поводам и, как правило, допускает уничижение и даже физическое уничтожение того, кто стал объектом зависти. Зависть способна вызвать у завистника стресс в тяжёлой форме. Именно поэтому зависть считается недопустимой нравственной категорией.
Нормативное требование к человеку «не про из но си лож но го сви де тель ст ва на ближнего твоего» — это чётко выраженный запрет на ложь и клевету — этические категории, являющиеся своеобразным информационным «инструментом», с помощью которого зависть удовлетворяет часть своей эмоциональной переполненности. Посредством лжи и клеветы полностью или частично снимается психоэмоциональный стресс у завистника. Результатом клеветы может стать и физическое уничтожение того, кто вызвал чувство зависти. Поскольку ложь и клевета распространяются посредством искажённой информации, они поддаются количественной оценке и её можно измерить, сопоставляя реальные события или (сущности) и информационный поток, касающийся их. Поэтому ложь и клевету можно квалифицировать как измеримый качественный параметр культуры.
Сложнее перевести к современному пониманию древнюю нравственную норму «Не пре лю бо дей ст вуй» , сформулированную от имени Бога древних иудеев, которые в тот момент формировали институт моногамной семьи — один муж и одна жена. В культурах, исповедующих иного бога или богов, институт семьи допускает многожёнство (ислам) или многомужество (религиозные культы отдельных народов Африки). Поэтому единого для всех современного понимания запрета «не пре лю бо дей ст вуй» не может быть. Приходится его трактовать.
Допустима следующая трактовка: прелюбодеянием можно считать любое сожительство мужчины и женщины, результатом которого становится рождение детей, которые не нужны биологическому отцу, не нужны матери или обоим сразу. Ребёнок, не имеющий одновременно двух родителей, в течение достаточно долгого времени остаётся физически немощным или беззащитным, что допускает возможность проявления к нему актов насилия и жестокости. В свою очередь, пережитые в детстве акты жестокости закрепляются в сознании как допустимая форма взаимоотношений между людьми. И она будет транслироваться в будущее. Именно поэтому со ци аль ный за прет на пре лю бо дея ние можно считать важным качественным параметром культуры, который характеризует социальную ответственность живущих поколений перед будущими. Количественным измерением этого качественного параметра можно считать число детей, оказавшихся на улице или живущих в составе неполных семей. Неприемлемым поведенческим стереотипом в социокультурной системе является и однополое сожительство, исключающее возможность рождения детей. Человек как объект экосистемы не является гермафродитом, и при однополом сожительстве нарушается естественное системное условие воспроизводства одного из видов живой природы.
Важной духовно-нравственной социализирующей нормой является отношение к старикам, утратившим способность не только работать, но даже обслуживать самих себя. По форме эта духовно-нравственная норма ( «По чи тай от ца твое го и мать твою …» ) сопрягается с параметром «альтруизм». Для почитания предков есть ограничение — ресурсный потенциал, из которого через трудовую деятельность реализуются альтруистические поступки и качественные параметры культуры, которые мы ещё не рассматривали — чувство долга и совесть . Поэтому социальной и духовнонравственной норме «По чи тай от ца твоего …» соответствует качественный параметр культуры, который можно измерить через показатель «заброшенная старость» и квалифицировать как «социальный стандарт» .
Особняком стоят категории «не уби вай» и «не кра ди» . Категория «не убивай» сформирована как попытка снизить агрессивность и повысить гуманность культуры мерами социализации — нравственного запрета на убийство. Поскольку агрессивность человека имеет генетическую обусловленность, достигнуть абсолютного гуманизма невозможно. Для этого понадобилось бы вмешательство в генную программу человека и её изменение. Поэтому снижение агрессивности и гуманизация общества могут быть достигнуты лишь частично за счёт применения социальных инструментов, включая моральный запрет на убийство , и сопутствующих инструментов возмездия для тех, кто нарушает этот запрет.
Вторая категория «не кради» также является попыткой социального регулирования уровня альтруизма и стяжательства культуры. Без социального регулирования взаимоотношений людей по поводу использования продуктов трудовой деятельности неизбежен всплеск агрессивности: непосредственный контакт индивидов, которые имеют разный уровень альтруизма и стяжательства, приведёт к жестокой борьбе за создаваемый продукт труда, проще говоря, к войне на уничтожение всех всеми.
Социальные параметры не отменяют агрессивность вообще и не обеспечивают достижение абсолютного альтруизма. Но за счёт нравственности можно поддерживать гуманность культуры и систему распределения материальных благ, создаваемых трудом, на определённом уровне. Этот уровень становится мерой цивилизованности культуры на каждом историческом этапе её развития.
Помимо параметров культуры, которые имеют генетически обусловленное происхождение, и нормативных факторов, формируемых социальными запретами, есть ещё группа качественных параметров культуры, о природе которых до настоящего времени сказать что-то определённое невозможно: совесть, долг, эстетическая чувственность и восприятие красоты, мировоззрение , неосознанные пристрастия . При этом одни («совесть» и «долг») — сугубо внутренние параметры индивида, которые могут не проявляться внешне или проявляются через внешние поступки и дела. Другие ( эстетическая чувственность и восприятие красоты ) формируют внешние признаки культуры и могут проявляться в элементах бытовой, производственной культуры. Но в отличие от категорий «совесть» и «долг» эстетическая чувственность и восприятие красоты не являются абсолютными для индивида и в меньшей степени зависят от внутренней духовной сущности. Эстетическая чувственность и восприятие красоты индивидом поддаются корректировке через воспитание и обучение.
Гораздо сложнее регулируются мировоззрение, личные (неосознанные) пристрастия, которые также являются духовно-нравственными категориями, участ- вующими в формировании качественных параметров культуры. Они являются сугубо личными, но могут меняться в процессе жизнедеятельности индивида под влиянием некоторых внешних обстоятельств, возраста, психофизиологических особенностей индивидуума — силы воли и характера.
Особую группу образуют параметры культуры, обусловленные ходом развития культуры — знания и умения .
В своей совокупности все перечисленные качественные параметры культуры определяют духовно-нравственную компоненту социокультурного пространства как объекта моделирования. В качестве алгоритма, с помощью которого могут быть изменены характеристики этих параметров и достигнуты целевые значения качественных параметров культуры, используется культурная и экономическая политика. Принципиально важно при формировании культурной и экономической политики учитывать требования оптимальности по Парето: улучшение значения любого параметра допустимо при условии, что не будет ухудшения по всем другим.
Духовно-нравственное состояние общества является необходимой компонентой для выработки культурной и экономической политики. Но не достаточной. В ней не учтён характер важнейшей сущности культуры человека — его способности трудиться, отношения индивида к труду и желаемого образа жизни.
Способность трудиться является одной из важнейших свойств культуры человека. Экономика культуры рассматривает человека как субъекта экосистемы, для которого труд является неотъемлемым сущностным свойством и условием его воспроизводства через систему жизнеобеспечения и осознанного выбора индивидом способа обеспечения жизнедеятельности . Из сказанного следует, что принципиально можно разделить выбранные индивидом способы обеспечения жизнедеятельности на два крупных класса:
-
1. Обеспечение жизнедеятельности на основе собственного созидательного труда.
-
2. Обеспечение собственной жизнедеятельности на основе чужого созидательного труда. Кто они: иждивенцы, ведущие праздный образ жизни за счёт трудоголиков-альтруистов? Или те, кто нуждается в поддержке в рамках социокультурных стандартов?
Назовём их трудоголиками.
В своё время К. Маркс объяснял накопление капитала, обеспечивающего, в том числе, праздный образ жизни, эксплуатацией пролетариата. Но рассматривая категорию «труд», он ограничился только одним аспектом использования трудового потенциала, когда рабочий выступает на товарном рынке как продавец своей собственной рабочей силы». А этому обществу в период 1840—60-х годов соответствовали первый этап промышленной революции, примитивный аграрный сектор и только начавшийся переход от феодализма к капитализму. Вполне естественно, что единственным способом обеспечения жизнедеятельности человека и всего человечества было использование имеющейся рабочей силы, привлекаемой к труду. Это означало, что только в труде и посредством эксплуатации рабочей силы можно было удовлетворить потребности общества. В этот период к труду привлекались практически все слои населения. По данным К. Маркса, к труду на мануфактурах Англии массово привлекались дети в возрасте от 9 лет, продолжительность рабочего дня которых регламентировалась законодательно. В России, по данным Министерства торговли и промышленности за 1912 год, на фабриках и заводах России трудились десятки тысяч мальчиков и девочек в возрасте от 12 лет. Для идентификации эксплуатируемой рабочей силы стали использовать уточняющее понятие — «фи зи че ский труд». Эта идентификация была нужна по той простой причине, что начиналась технологическая революция. Создатели паровой машины, прядильных, ткацких станков к концу XVIII века дали мощный толчок бурному технологическому развитию. Статистических данных о количестве интеллектуалов в XVIII—XIX веках нет, и оценить динамику их количественного роста не представляется возможным. Достоверные данные появились только с развитием статистической отчётности в начале ХХ века. По этим данным за 12 лет куль тур ной ре во лю ции в СССР численность интеллектуальных трудовых работников (ИТР) в экономике возросла более чем в 9 раз. В СССР была реализована программа ликвидации безграмотности и всеобщего обучения населения.
При этом труд оставался основным способом самоутверждения человека в мире, но с точки зрения экономики — разделился на виды «фи зи че ский труд» и «ин тел лек ту-альный труд» . Именно инженерно-технических работников и учёных стали считать субъектами «ин тел лек ту аль но го тру да» . В ХХ веке за 1940—86 годы в СССР масса живого труда в строительстве ( рассчитана по численности занятых людей ) возросла в 5,2 раза, а масса овеществлённого труда — в 136,8 раза. При этом масса овеществлённого труда оценена только количеством машин, без учёта изменившихся качественных характеристик. При этом изменилась и структура живого труда. Доля тех, кто не занят непосредственно физическим трудом ( ИТР, слу жа щие, МОП, ра бот ни ки ох ра ны ) увеличилась с 17 до 21 процента. Их количество возросло в 6,2 раза, а количество занятых непосредственно физическим трудом увеличилось в 5 раз. В сельском хозяйстве масса живого труда снизилась на 18%, а масса овеществлённого труда возросла за этот же период более чем в 15 раз.
Как видим, общий рост культуры за последние 100—150 лет привёл к глубоким качественным изменениям производительных сил: получила развитие энергетика, нефте- и газодобыча, созданы экскаваторы, прокатные станы, доильные аппараты, трактора, получает развитие кибертруд.
В условиях трансформации культуры выделяется в качестве самостоятельного экономического агента собственно культурная деятельность, усиливая роль интеллектуаль- ного и творческого труда. Наряду с очевидными изменениями в культуре нарастают и неочевидные последствия, которые должны быть учтены при разработке культурной и экономической политики. Число людей, труд которых имеет признаки преимущественно интеллектуального труда, увеличивается с большей скоростью, нежели число тех, чей труд можно классифицировать как физический или интеллектуально-физический. Одновременно нарастает и общая численность людей и, соответственно, масса тех, кто не реализует свои трудовые функции.
К какой категории по образу жизни их можно отнести? Их жизнедеятельность обеспечивается в рамках трудового образа жизни или праздного ? Вопрос серьёзный. С точки зрения постулатов экономики культуры проблемой является не факт нарастания общей массы индивидов, у которых временно или постоянно отсутствуют трудовые обязанности. Эта масса по своей численности по мере развития технологической культуры и замещения живого труда овеществлённым должна нарастать и будет нарастать. Проблемой экономической и культурной политики становится определение пропорций между объёмом ресурсов потребления, которые создаются в социально-культурной системе и распределяются между работающей массой популяции и иждивенцами . Решение этой проблемы предстоит найти посредством применения механизма социальной и социокультурной стандартизации.
Социальные стандарты вырабатываются государством, которое таким образом обеспечивает сохранение социальной гармонии. При этом образ жизни формирует и набор поведенческих стереотипов индивидов, которые могут входить в противоречие с социокультурными стандартами. В свою очередь, набор вариантов индивидуальных моделей поведения допускает возможность получения трудовых, условно трудовых и нетрудовых доходов. При этом избранные модели поведения могут быть общественно необходимыми, социально допустимыми и социально опасными. Оценку этим моделям можно дать только исходя из сложившихся социокультурных стандартов.
Социокультурная стандартизация является чрезвычайно важным процессом, который оказывает решающее влияние на характер культуры, приводя к созданию монокультурного или мультикультурного пространства. В условиях «размытых» социокультурных стандартов, возникает мультикультурное пространство, когда на пространстве какой-либо субкультуры не возникает доминирующего параметра культуры. Доминирующими параметры культуры становятся, когда они присущи не менее чем 65% от числа популяции. В условиях сложно структурированного социокультурного пространства России, политически ангажированных органов управления степень «размытости» социокультурных стандартов является одной из значимых характеристик региона, для территории которого разрабатывается культурная и экономическая политика.
Список литературы Методологическое обоснование параметров для моделирования социокультурного развития региона
- Галуцкий Г. М. Управляемость культуры и управление культурными процессами. Москва, 1998.
- Майерс Д. Социальная психология. Санкт Петербург: Питер, 2000. 682 с.
- Трапезников В. А. Управление и научно-технический прогресс/Российская Академия наук, Институт проблем управления. Москва, 1983/2005.