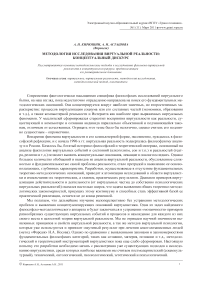Методология исследования виртуальной реальности: концептуальный дискурс
Автор: Кирюшин Алексей Николаевич, Асташова Алла Николаевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (11), 2011 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются основные методологические подходы к исследованию феномена виртуальной реальности в концептуальном ракурсе, предполагающем его расширительное понимание.
Виртуальное, виртуальная реальность, методология исследования, методологический подход, константное
Короткий адрес: https://sciup.org/14821616
IDR: 14821616
Текст научной статьи Методология исследования виртуальной реальности: концептуальный дискурс
Современная фактологически насыщенная специфика философских исследований виртуального бытия, на наш взгляд, пока недостаточно определенно направлена на поиск его фундаментальных методологических оснований. Она концентрируется вокруг наиболее заметных, но второстепенных характеристик: процессов виртуализации социума или его составных частей (экономики, образования и т.д.), а также компьютерной реальности и Интернета как наиболее ярко выраженных виртуальных феноменов. У мыслителей сформировался стереотип восприятия виртуальности как реальности, существующей в компьютере и сознании индивида параллельно объективной и подчиняющейся законам, отличным от естественных. Отрицать этот тезис было бы нелогично, однако считать его подлинно сущностным – опрометчиво.
Внедрение феномена виртуальности в его компьютерной форме, несомненно, нуждалось в философской рефлексии, и с начала 1990-х гг. виртуальная реальность подвергалась философскому анализу и в России. Казалось бы, богатый историко-философский и теоретический материал, основанный на анализе фактологии виртуальных событий и состояний (алкоголизм, сон и т.п.) и реальностей (театра, религии и т.д.) позволит выявить концептуальные основания, лежащие в основе последних. Однако большое количество обобщений и выводов из анализа виртуальной реальности, обусловленное сложностью и фундаментальностью самой проблемы реальности, стало преградой к выявлению ее основополагающих, глубинных характеристик. Разработки, осуществляемые в отсутствие фундаментальных теоретико-методологических оснований, приводят к атомизации исследований в области виртуалист-ки и измельчанию их теоретических, а главное, практических результатов. Диапазон примеров виртуализации действительности и деятельности (от виртуальных частиц до собственно психологических виртуальных реальностей) оказался настолько широк, что задача выявления общих теоретико-методологических закономерностей, присущих этому континууму и способных стать эффективной базой ее практической реализации, остается не до конца решенной.
Мы полагаем, что дальнейшие изучение малоперспективно без устранения методологических пробелов и выявления концептуализирующих оснований виртуалистики. Одна из задач найденного философско-методологического аппарата и будет заключаться в устранении «мозаичности» примеров разнообразных существующих виртуальных событий и процессов и нахождение для каждого из них своего места в целостной теории виртуальной реальности. Мы не отрицаем научной значимости выявленных принципов и свойств виртуальной реальности, а так же методов виртуальной психологии, которые уже используются и приносят ощутимый результат при лечении алкоголезависимых людей (метод «Форсаж» Н.А. Носова). Однако по сравнению с выявленными законами и закономерностями фундаментальных философских категорий, таких как сознание, материя, познание и т.д., методологический и теоретический инструментарий виртуалистики пока еще слабо сформирован. Настоящую попытку его разработки необходимо начать с рассмотрения уже существующих подходов к исследованию виртуалистики, среди которых наиболее важными мы считаем постмодернистский (социокультурный), технический, онтологический, гносеологический, эстетический и психологический.
В постмодернистском подходе размышления о виртуальном сводятся в основном к анализу последствий использования его технической разновидности (Интернет, виртуальные миры и компьютерные симуляторы). Проблема же поиска сущности и объяснения наиболее глубинных актов виртуальных процессов была ограничена социокультурным контекстом и использованием теории симулякров.
По мнению А.А. Бодрова, опирающегося на взгляды Ж. Делеза и Ж. Бодрийара, симулякры – это нечто вроде ложных претендентов. Симулякр становится телом, но виртуальным. А феномен виртуальной реальности можно охарактеризовать как организованное пространство симулякров – особых объектов, «отчужденных знаков», которые в отличие от знаков-копий фиксируют не сходство, а различие с референтной реальностью [1, с. 15 – 16]. Отдельное и достаточно широкое направление в исследовании виртуальной реальности заключается в техническом ракурсе (М. Хайм, Ф. Хеммит, Д. Дойч и др.) [6; 13; 16; 17]. Среди его отечественных представителей отметим В.С. Бабенко, А.И. Воронова, Е.Г. Прилукову и др. Е.Г. Прилукова использует понятие виртуальной реальности для исследования «реальности телевизионной», отмечая, что теле-виртуальная реальность характеризуется ненаблюда-емостью и нерегистрируемостью и представляет собой «гомоморфное дискретное отражение эмпирической реальности, лишенное темпоральной и континуальной длительности» [12, с. 7].
А.И. Воронов понимает виртуальную реальность как «кибернетическое пространство, созданное на базе компьютера, в котором техническими средствами предпринята полная изоляция оператора от внешнего мира, т.е. перекрыты все каналы тактильной, слуховой, зрительной и любой иной связи с окружающим пространством» [4]. Между тем, по мнению Р.И. Вылкова, в контексте технического подхода существуют несколько отдельных направлений.
Первое направление в техническом методологическом подходе к исследованию компьютерной (технической) виртуальной реальности исследовал С. Жижек. Специфика ее онтологического статуса определена отличиями между имитацией и симуляцией. Первая основана на противопоставлении первичного (модели) и вторичного (копии); постулируется невозможность их отождествления по онтологическому основанию. Симуляция действует иначе: она порождает реальность при помощи сходства ее спекулятивным операциональным образом, который не обладает актуальным, вещественным существованием. Для симуляции нет принципиального структурного различия между природой и ее искусственной репродукцией. Эта процедура смещает и/или стирает различия между реальным и ирреальным.
Второе направление исследует влияние компьютерной виртуальной реальности на отношения между людьми в рамках сетевой коммуникации. По данным социологических исследований, сетевая коммуникация является совмещением нерефлексируемого функционального содержания компьютера с человеком и отсутствия внешних запретов на девиантное поведение других пользователей. Ее участники осознают схему взаимодействия «человек – компьютер – человек», но общаются в сети в соответствии со схемой «человек – компьютер». Анонимность в сетевой коммуникации становится возможностью экспериментирования с идентичностью при освобождении от ограничения собственной внешности, биографии, социального положения. Пользователь может одновременно контролировать несколько «спектаклей идентичности». Однако такая социальная перцепция заранее ориентируется на формирование редуцированного образа коммуникативного партнера, поэтому нельзя поддаваться утопическому взгляду на Интернет как на сообщество принципиально неограниченной коммуникации. До сих пор широко распространяется заблуждение, согласно которому все участники телеконференций и форумов в Интернете равны по своему социальному статусу. Это неверно, т.к. создатели сетевых сообществ часто вводят и поддерживают социальные нормы. Таким образом, виртуальная реальность задает другую парадигму взаимодействия по сравнению с общением в реальной жизни.
В рамках четвертого направления компьютерная виртуальная реальность соотносится с социально-философским аспектом информационных технологий сети Интернет. Универсальная компьютерная сеть, объединяющая все информационные потоки в единое поле, является новым вариантом проекта Просвещения. Существуют книги для линейного чтения, консультаций (справочники). Последние уже практически вытеснены электронными носителями и сетевыми технологиями. Однако такая судьба в обозримом будущем вряд ли постигнет книги для чтения. Текст ограничивает неопределенные возможности лингвистической системы и создает закрытый универсум значения. Специфика Интернета как электронной энциклопедии состоит в его подобии лингвистической системе, а не тексту в вышеуказанном значении. В связи с этим способность интерпретировать уже существующие тексты отличается от деятельности по их порождению, причем первая не зависит от второй. Избыток количественной информации не дает ее качественного прироста. Если анализировать виртуальную реальность только как эмпирическую характеристику сети Интернет, то это позволяет консерваторам скрыть информационные противоречия информационного общества благодаря ссылке на формирования нового вида технократии [4, с. 16 – 17].
Таким образом, технический анализ виртуальной реальности связывает возникновение последней с компьютерными и симуляционными (имитационными) технологиями. Технический формат исследования виртуальной реальности, на наш взгляд, актуализирован попытками ее искусственной репрезентации и раскрывает естественные механизмы существования виртуального. Однако, несмотря на кажущийся предметный характер технического функционирования виртуального, на переднем плане по-прежнему остается ее естественное психологическое содержание. С техническим методологическим подходом тесно связан онтологический.
Адепты онтологического направления (Н.А. Носов, В.М. Розин, С.С. Хоружий и др.) изучали характеристики виртуальной реальности, свидетельствующие об ее укорененности не только в психике человека, но и физическом универсуме в виде виртуальных перемещений, виртуального катода и т.д. Были определены признаки, статус, логика функционирования виртуальной реальности. Однако между исследователями существуют некоторые разногласия по ряду позиций. На наш взгляд, Н.А. Носов отождествляет виртуальную реальность с актуально существующей как отражение актуализации образа в самообразе характера [9, с. 54]. С.С. Хоружий располагает ее между потенциальностью и действительностью, рассматривая как не до конца воплощенное существование, и утверждает, что не столь трудно выделить общую основу, набор главнейших элементов и определяющих свойств, которые присущи представлениям о виртуальности во всех сферах их бытования. Наиболее формализованы эти представления в теоретической физике, и потому именно здесь искомые свойства выступают нагляднее всего. С этой же сферой связан и генезис всей темы, ибо идея виртуальности появляется впервые в контексте оснований классической механики. Законы движения были выражены посредством вариационных принципов, последние же включали в себя «виртуальные движения» (перемещения, пути, кривые...). Эти условные «движения» описывались теми же величинами, что реальные механические движения, однако не учитывали реальных действующих сил и потому, разумеется, не могли осуществляться в действительности. Подобно этому, «виртуальный фотон» в квантовой электродинамике – объект, наделенный всеми теми же характеристиками, что и реальный («физический») фотон, однако не удовлетворяет некоторым существенным условиям и ограничениям на эти характеристики: его энергия не обязательно является положительной, а масса – нулевой. Аналогично определяется и любая «виртуальная частица». «Виртуальная траектория» – траектория, по которой могла бы двигаться виртуальная частица, т. е. она также наделена всеми характеристиками «физической» траектории, однако освобождена от части свойств и условий, определяющих последнюю (вполне идентично «виртуальному движению» в классике) и т. д. Используя физико-математическую подоплеку, интересные философские выводы делает И.А. Акчурин. По его мнению, именно параллельные виртуальные миры положены в основу наиболее интересной и интенсивно разрабатываемой сейчас третьей, «многомировой» интерпретации квантовой теории Эверетта – Уилера. Согласно этой концепции, каждая актуализация квантовой вероятности дает расщепление существовавшей (до этой реализации) вселенной на две (или более) параллельные вселенные, в каждой из которых реализованы все теоретически допустимые, вероятностные возможности. А ведь квантовая теория (вместе с теорией относительности) – наиболее глубокий и устойчивый фундамент всего нашего современного научного понимания мира.
Вместе с тем к носителям виртуальной реальности нередко относят виртуальные частицы. Квантовые эффекты могут приостановить действие закона сохранения энергии на очень короткое время, в течение которого энергия может быть «взята взаймы» на различные цели, в том числе на рождение частиц. Все возникающие в этом случае частицы будут короткоживущими, т.к. израсходованная на них энергия будет возвращена спустя ничтожную долю секунды. Частицы могут возникнуть «из ничего», обретя мимолетное бытие, прежде чем исчезнуть. То, что раньше казалось пустым пространством, в действительности «кишит» виртуальными частицами [8, с. 198].
В интернет-энциклопедии «Википедия» под виртуальной частицей понимают некоторый абстрактный объект в квантовой теории поля, обладающий квантовыми числами одной из реальных элементарных частиц (с массой m ), для которого однако не выполняется обычная связь между энергией и импульсом. Виртуальные частицы не могут «улететь на бесконечность», они рождаются и обязаны поглотиться какой-либо частицей. Можно сказать, что виртуальные частицы – это и есть то, как происходит взаимодействие… Строго говоря, виртуальные частицы – это в большей степени математическое явление, чем физическая реальность. Действительно, в квантовой теории поля в точных выражениях для процессов взаимодействия реальных частиц никакие виртуальные частицы не фигурируют. Если же попытаться упростить точное выражение в рамках теории возмущений, разложив его в ряд по константе взаимодействия (малому параметру теории), то возникает бесконечный набор слагаемых. Каждый из членов этого ряда выглядит так, словно в процессе взаимодействия порождаются и исчезают объекты, обладающие квантовыми числами реальных частиц. Однако эти объекты распространяются в пространстве по закону, отличному от реальных частиц, и поэтому если их трактовать как испускание и поглощение частицы, то придется принять, что для них не выполняется связь между энергией и импульсом. Таким образом, виртуальные частицы появляются только тогда, когда мы определенным образом упрощаем исходное выражение.
Впрочем, несмотря на некоторую фиктивность понятия «виртуальная частица», во многих случаях это удобный язык для описания взаимодействия. В частности, громоздкость вычисления процессов резко снижается, если предварительно составить правила рождения, уничтожения и распространения этих виртуальных частиц (правила Фейнмана) и изобразить процесс графически с помощью фейнмановских диаграмм [3].
Таким образом, онтологизация концепта «виртуальная частица» обусловлена необходимостью корректного физико-математического описания процессов микромира, а не ее виртуальной природой. По своей сути виртуальная частица не переносится и не существует в ином мире, а присутствует и функционирует в объективной, константой реальности. В данном случае понятие «виртуальный» имеет исключительно узконаучное терминологическое значение, распространяющееся лишь на физический универсум и не приложимо к субъективной реальности виртуального.
Онтологический подход предполагает гносеологический контекст исследования виртуальной реальности. Именно этот, по мнению И.А. Акчурина, ракурс (волнующий всякую философию в наши дни) также почти всегда связан с виртуальными мирами. Наиболее общий – универсальный и всем доступный параллельный (виртуальный) – мир создает, конечно же, в определенном смысле философская наука, прежде всего своими категориями. Любой мыслящий человек, решая сколько-либо важную для него проблему, сознательно или совсем не думая об этом, «работает» в некоем специфическом (а иногда даже фантастическом) параллельном мире.
Новое осмысление такого рода задач (древних и трудных), конечно, очень заманчиво, но кажется возможным, по-видимому, только в ходе дальнейшей, более глубокой, основательной и содержательной разработки самой концепции виртуальных миров. На рубеже нового столетия перед человечеством встают глобальные проблемы. Например, растущая опасность падения на Землю очень большого метеорита (пролетающие в ближайшие годы мимо Солнца крупные звезды могут очень сильно возмущать устойчивые траектории крупных и мелких астероидов из так называемого «пояса Оорта» – области околосолнечного космического пространства, наполненной различными космическими облом- ками). Другая, не менее острая, глобальная проблема – вероятность катастрофического расширения в ближайшие годы больших озоновых дыр над арктическими и антарктическими регионами нашей планеты, угрожающего не только здоровью и жизни людей, но, возможно, и всей биосфере Земли. Не меньше тревоги вызывает и возможность вымирания целых регионов планеты от таких опасных и пока не излечимых инфекций, как СПИД или лихорадка Эболи. Благодаря окончанию «холодной войны» несколько отдалилась, но, к сожалению, еще совсем не исключена опасность приближения мира к глобальной ядерной войне. Любые многоэтапные и многоуровневые сценарии такого рода глобальных катастроф неизбежно приводят (на одном из последующих периодов своего развития) к построению нового, иногда довольно абсурдного, параллельного мира со специфической динамикой развития, которая имеет очень много общего с динамическими ситуациями, уже изученными в теоретической вир-туалистике (включая и предкомпьютерные этапы ее развития – научную фантастику и поставленные по ней художественные фильмы). Сейчас многие художественные фильмы (особенно постмодернистские) представляются «прикладной виртуалистикой».
Не стоит думать, что виртуальные (параллельные) миры – это дело интеллектуалов, связанных с теоретической физикой или космологией, геополитикой или современным искусством. Напротив, каждый человек в своей жизни много раз в состоянии мечтаний или сна переходил в параллельный мир, отличный от повседневного. Видимо, именно здесь надо искать историко-культурные истоки современной концепции виртуальных (параллельных) миров: доступный всем специфически эмоциональный психологический опыт вооружает любого простейшей методологией построения вымышленного, но помогающего понять действительность мира. Все великие мифы и религии человечества, все его сколько-нибудь значительные произведения искусства, конечно же, являются в этом аспекте своеобразными «предкомпьютерными» источниками современной методологии, «конвейерного» построения виртуальных миров в больших вычислительных комплексах наших дней.
Наряду с этим последовательный гносеологический методологический подход к исследованию виртуального позволяет нам сделать вывод о тесной связи с ним процессов познания, поскольку в данном случае познавательный процесс предстает как построение гипотез (сценариев, представляющих собой виртуальные формы развития объекта или субъекта познания) и их практическая проверка. Развивая эту точку зрения, можно выявить немало виртуальных аспектов в познании вообще и мышлении в частности.
При всей распространенности термина «сценарий» и его конкретных приложений весьма актуальными остаются слова С.С. Хоружия: «...Философии и культурологии еще предстоит раскрыть, сколь тесно и глубоко идеи и представления виртуалистики сплетены с сегодняшними культурными и антропологическими процессами. Несомненно и явно, что эти процессы отражают нарастающую тенденцию к восприятию реальности человеком – как реальности многомирной, реальности сценарной и вариантной, реальности, где все большее место принадлежит модельной и игровой, подвижной, пластичной и проблематичной стихии. И не менее несомненно, что все эти виды или предикаты реальности весьма близки к чертам реальности виртуальной, если не прямо принадлежат ей» [14, с. 67].
Таким образом, в самой общей форме концепция «виртуальных» (возможных) миров представляется нам некоторым особым систематическим методом моделирования потенциальной онтологической целостности для изучения ее поведения. Гносеологическая интенция виртуальной реальности не мыслима без глубокого онтологического содержания и является его фундаментом.
Отметим так же тот факт, что между наиболее авторитетными сторонниками онтологического (в том числе гносеологического) и психологического подходов существует немало точек соприкосновения. Н.А. Носов и С.С. Хоружий вводят категорию виртуальности, противопоставляя ее субстанциональности и потенциальности – традиционным понятиям, на которых базируется вся западная философия. Оппозиция «виртуальность – субстанциональность», по мнению авторов, требует отказа от моноонтического мышления (постулирующего существование только одной реальности) и введения полионтической непредельной парадигмы (признание множественности миров и промежуточных ре- альностей). При таком подходе каждый уровень виртуальной реальности способен порождать виртуальную реальность следующего уровня, становясь по отношению к ней определяющей (константной реальностью) и так до бесконечности. Предел здесь, по мнению С.С. Хоружего, определен лишь ограниченностью, уровнем развития психофизиологической природы человека как «точки схождения всех бытийных горизонтов» [10, с. 5]. В пользу этого факта говорят и многочисленные прикладные использования виртуальной реальности в ее психологическом инварианте. Так, для лечения бронхиальной астмы современная медицина использует средства лекарственной терапии, физиотерапевтических процедур, физических упражнений, дыхательной гимнастики, психотерапии [2, с. 16 – 19]. Применение психологических виртуальных методов лечения в медицине и психиатрии свидетельствует о значительной виртуальной составляющей человеческой психики. Разработанная Н.А.Носовым и его единомышленниками теория психологических виртуальных реальностей дает возможность рассматривать психику как процесс, который может функционировать по крайней мере на двух психических уровнях, не сводимых друг к другу. При этом в каждом из них действуют особенные психические закономерности. Характеризуя акт перехода в другую реальность, можно сказать, что специфика виртуального подхода заключается в том, что вторая реальность порождается, а затем оказывает влияние на порождающую реальность. Другими словами, если субъект сначала находится в одной психической плоскости, то затем происходит порождение еще одной плоскости, события которой решающим образом действует на первую (повышая или понижая его продуктивность) и которая исчезает после определенного события. Реальность, порождающая (психологическую) виртуальную реальность, называется (психологической) константной реальностью (Н.А. Носов).
Отмеченные характеристики психологической виртуальной реальности могут использоваться человеком при решении задач, требующих кардинального изменения стратегии решения: переход с формально-логического операционного способа на творческий. Это особенно хорошо заметно в играх со строгим соперничеством. Так, Н.А.Носов отмечает, что в психологии спорта есть факты, когда в соревновании примерно равных по силам противников условием победы становятся психологические характеристики.
Теоретико-методологическим основанием факта существования нескольких психологических реальностей является принцип полионтичности. Сторонники идеи полионтичности исходят из того, что существует много несводимых друг другу, т.е. онтологически самостоятельных, реальностей (например, бодрствование и сон, измененное и обычное состояния сознания). Современные психологические концепции сновидения не сводят его реальность не только к биологическим основаниям, но даже к психологическим, существующим в бодрствующем состоянии, и рассматривают сновидение как самостоятельную реальность, онтологически не зависимую от бодрствующего состояния, хотя определенным образом и связанную с ней.
Подход, основанный на признании полионтичности реальностей, разработанный и описанный нами, получил название «виртуалистика». Принципиально нового в признании существования реальностей разного типа, т.е. не сводимых друг к другу, в рамках одной науки нет. Например, в физике признается существование и вещества, и поля, существование взаимодействий разного типа (сильного, слабого и т.д.).
Виртуальная реальность, с нашей точки зрения, независимо от ее природы (физической, психологической, социальной, технической и др.) обладает следующими специфическими свойствами: порож-денностью, актуальностью, автономностью, интерактивностью.
Порожденность. Виртуальная реальность продуцируется активностью какой-либо другой реальности, внешней по отношению к ней. В этом смысле ее называют искусственной, сотворенной, порожденной. Психологические виртуальные реальности порождаются психикой человека.
Актуальность. Виртуальная реальность существует актуально, только «здесь и теперь», пока активна порождающая реальность.
Автономность. В виртуальной реальности свои время, пространство и законы существования. Для человека, находящегося в ней, нет внеположного прошлого и будущего.
Интерактивность. Виртуальная реальность может взаимодействовать со всеми другими реальностями (в том числе и с порождающей) как онтологически не зависимая от них. В отличие от виртуальной порождающая реальность называется константной [9, с. 33].
Понятия «константный» и «виртуальный» являются относительными: виртуальная реальность может породить виртуальную реальность следующего уровня, став относительно нее константной реальностью. Исходная константная реальность при этом сворачивается, становясь виртуальным элементом новой константной реальности.
Психологический дискурс виртуальной реальности пересекается с эстетическим анализом ее исследования [11]. Понятие виртуальной реальности активно используется как создателями художественных произведений, так и искусствоведами. Для этого есть свои причины: искусство всегда создавало образ, модель человека, общества, реальности. Он рассматривается как определенная условная, воображаемая реальность. Совокупность художественных образов выступает как художественная реальность. Она сконструирована, объективирована, но существует благодаря деятельности человека, и это творение при всей его иллюзорности, фиктивности обладает определенным соответствием по отношению к миру, предполагает вариантность интерпретации и т.д. Параметры художественной реальности наиболее приближены к свойствам виртуальной реальности.
Исследование виртуальной реальности, по мнению С.И. Орехова, осуществляется по нескольким направлениям.
-
1. Психолого-эстетическое направление . В данном случае используются положения виртуальной психологии для описания и объяснения некоторых процессов, возникающих в сфере искусства. Например, исследование творческого, психологического состояния актера, писателя композитора. В этом направлении исследуется не столько виртуальная реальность в искусстве, сколько виртуальная реальность, возникающая у создателя произведения искусства. Психика художника, писателя, музыканта, отражая и переконструируя реальную жизнь, одновременно создает новый мир, существующий как виртуальная реальность с индивидуальным характером.
-
2. Технико-эстетическое направление , связанное с развитием воззрений на виртуальную реальность как технический эпифеномен. По сути, это та же техническая виртуальная реальность, но с акцентом на создание определенных эффектов и спецэффектов, имеющих эстетическое содержание. В результате в технико-технолого-эстетическом направлении проблема изучения виртуальной реальности формулируется так: какие технические системы и программное обеспечение необходимо применить, какие спецэффекты необходимо использовать, чтобы получить необычное и максимальное воздействие на потребителя данного произведения?
-
3. Эстетическое направление. В рамках этого направления материальное обеспечение, техникотехнологическая сторона отодвигаются на второй план. Изучается само произведение, созданное с помощью информационных технологий. Компьютер рассматривается как кисть, карандаш, резец, т.е. как некий универсальный инструмент для создания художественного произведения, рассматриваемого как виртуальная реальность, ее фрагмент или «виртуальное произведение». В итоге эстетический методологический подход к исследованию виртуальной реальности в его современном инварианте имеет немало точек соприкосновения с ее психологическим (в контексте анализа влияния художественного произведения на зрителя, иммерсии актера в образ во время игры на театральной сцене и т.д.) и техническим (в ракурсе использования компьютерных технологий и спецэффектов для придания фактурнос-ти влияния художественного произведения) анализом. Между тем, эстетизация виртуальной реальности представляет собой отдельное методологическое направление исследования и несет неповторимое качественное своеобразие ее репрезентации.
Таким образом, проведенный компаративный анализ ряда методологических подходов свидетельствует о том, что наиболее глубоким и предпочтительным в концептуальном исследовательском плане является психологический, поскольку именно он зачастую становится исходным и определяющим. Так, феномен виртуальной реальности дает пищу не только для психологических, но и технических ис- следований. В рамках технического подхода актуализируется разработка методов и технических средств создания условий для введения психики пользователя в виртуальную реальность. Специалисты, разрабатывающие технические устройства виртуальной реальности, учитывают в первую очередь психологические факторы и характеристики человека. В то же время исследователи психологического контекста изучения виртуальной реальности учитывают влияние технических систем виртуальной реальности на сознание человека.
Наряду с этим всю совокупность технических виртуальных реальностей можно назвать воплощением замыслов или «игры» фантазии программистов в конкретных программных продуктах. «Компьютерный виртуальный мир, – замечает Н. Карпицкий, – лишь усовершенствование уже открытой человеком виртуальной реальности» [7]. Реализовавшись в определенной программной среде, идея программиста или сообщества программистов становится виртуальным миром для геймера или пользователя. Не следует путать конкретную техническую (компьютерную) реализацию виртуальной реальности с ее наиболее глубокой психологической сущностью, поскольку определенные периферийные устройства компьютерной техники в строгом смысле не являются носителями виртуального бытия, а лишь вызывают в человеке субъективное ощущение присутствия в нем. Таким образом, техническая составляющая репрезентативности виртуального носит преимущественно кондициональный характер, т.е. формирует условия для появления субъективной, психологической виртуальной реальности.
Тем не менее, рассматривая проблему концептуализации виртуальной реальности с диалектических позиций и специфики взаимодействия сущности и явления, сделаем важное уточнение. Применение концептов виртуалистики в прикладных научных дисциплинах выходит за рамки психической реальности, и зачастую категории виртуалистики используются для описания актов и процессов неорганического уровня бытия: взаимодействия элементарных частиц, протекания физических процессов. Однако феномен виртуальной реальности в философии, несмотря на расширительное толкование его проявлений, следует ограничить животным и социальным миром. Но и в таком случае исследование проблем виртуалистики должно быть концептуальным и не сосредоточиваться только на изучении ее сущности, поскольку фактор виртуальной реальности в качестве целостного явления не всегда сводим к своей сущности. Так, техническая репрезентация виртуального есть «оторвавшаяся» от своей психологической сущности ее репликация. Глубинная психологическая подоплека виртуальной реальности воспроизведена с помощью новых информационных технологий за пределами психики, но повторяя все ее закономерности функционирования. Сущностные аспекты виртуальной реальности, таким образом, были воплощены технически, но с сохранением всех ее психологических особенностей.
Кроме того, воплощенные в программных и технических формах варианты виртуальной реальности в эстетических целях могут представлять ценность как произведение искусства (кино, театральные спецэффекты и т.д.). Если компьютерная виртуальная реальность представляет собой адекватную модель, симуляцию или имитацию объективной действительности (фрагмента действительности) с возможностью смены условий с целью выяснения поведения человека в будущем, то здесь мы сталкивается с гносеологическим инвариантом виртуального бытия.
В контексте же понимания постмодернизма как специфического мировоззрения информационного общества, а не как расплывчатой конгломерации эклектичных концепций, тезис о коммуникативной сущности виртуальной реальности выглядит весьма предсказуемым и соотносимым с рассматриваемой проблематикой. Понятие «виртуальная реальность» в постмодерне нельзя рассматривать в отрыве от социокультурного контекста, в рамках которого оно получило широкое распространение в связи с развитием телекоммуникационных и информационных технологий.
Объективная онтологизация виртуальной реальности, на наш взгляд, также не совсем корректна. Тем не менее укоренившаяся традиция описания нетривиального поведения ряда частиц, характеристик перемещения некоторых объектов и т.д. через категорию «виртуальное» свидетельствует лишь о терминологическом существовании последней. В таком случае и методология исследования виртуальной реальности не должна быть основана на одном психологическом подходе, который в концептуаль- ной исследовательской перспективе не достаточен для анализа и понимания проблем неконстантного бытия. Психологизация сущности виртуальной реальности не означает отказа от остальных методологических инструментов, особенно плодотворных в контексте ее анализа на уровне явления. Определенную ценность для описания и концептуализации виртуальных процессов и явлений вносят постмодернистский и технический подходы.
Отмеченные нами подходы значимы для концептуального исследования, однако методологический инструментарий виртуалистики еще не сможет выдержать строгую философскую критику. Описание виртуальной реальности и сопутствующих ей феноменов в рамках перечисленных подходов однобоко в широком философско-методологическом контексте, поскольку в нем не задействованы универсальные и инновационные философские способы познания. Из ранее существовавших отметим дискурс виртуальной реальности через оппозицию возможности и действительности, актуальности и потенциальности. Однако эти, уже ставшие классическими, полюсы существования виртуальности и одновременно методы осмысления последней необходимо дополнить новыми, более сложными методологическими приемами.
Таким образом, анализ существующего теоретико-методологического каркаса виртуалистики, представленного постмодернистским, техническим, онтологическим и психологическим и другими подходами, позволил выделить многообразные оттенки проявлений виртуальной реальности и виртуальных состояний. Среди отмеченных «стержневым» и наиболее универсальным мы считаем психологический подход, который определенным образом конкретизируется в остальных. Так, технизация виртуальной реальности не имеет смысла без адекватного психологического отклика субъекта, выражающегося в иммерсии последнего в искусственный мир. Постмодернистский ракурс исследования виртуальной реальности акцентирует внимание мыслителей на информационном (как сущностном) аспекте воздействия виртуального на человека и его сознание. Онтологизация концептов виртуалистики позволяет ограничить существование виртуального бытия более широкой, субъективной реальностью и подвергнуть сомнению попытки мыслителей придать виртуальным частицам статус объективно-су-ществующего феномена, а не удобной математической абстракции. Однако отказываться от отмеченных методологических модальностей психологического анализа виртуальной реальности не следует, поскольку их использование плодотворно в отведенных им узких рамках. В таком случае концептуализация виртуалистики должна осуществляться благодаря рассмотренному комплексу теоретико-методологических приемов, главенствующее место среди которых занимает психологический. Теоретикометодологический анализ виртуалистики не должен ограничиваться дискурсом ее концептов с точки зрения специфики психологических, онтологических и других граней виртуального. Сугубо философский анализ виртуальной реальности требует использовать как универсальные классические, так и современные методологические разработки.
Список литературы Методология исследования виртуальной реальности: концептуальный дискурс
- Бодров А.А. Виртуальная реальность как когнитивный и социокультурный феномен: дис. д-ра философ. наук. Самара, 2007.
- Брязгунов И.П., Михаилов А.Н., Носов Н.А. Виртуальное дыхание (бронхолечная патология с виртуальной точки зрения)//Виртуальные реальности. Труды лаборатории виртуалистики. М.: Центр виртуалистики и ин-та человека РАН. 1998. Вып. 4. С.16 -19.
- Виртуальная частица. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki.
- Воронов А.И. Философский анализ понятия «виртуальная реальность»: автореф. канд. филос. наук. СПб., 1999.
- Дзюбенко M.A. Дайджест книги Фрэнсиса Хэммета «Виртуальная реальность». URL: http//astu.secna.ru.
- Дойч Д. Структура Реальности. М. -Ижевск, 2001.
- Карпицкий Н. Онтология виртуальной реальности. URL: http://tvti.narod.rii/virtual.htm.
- Микешина Л.А., Опенков М.Ю. Новые образы познания и реальности. М.: Рос. полит. энцикл., 1997.
- Носов Н.А. Виртуальная психология. М.: Аграф, 2000.
- Нуруллин Р.А. Виртуальность как условие существования реальности//Вестн. Самар. гос. ун-та. 2005. №14(38). С. 5 -7.
- Орехов С.И. Виртуальная реальность: исследование онтологических и коммуникативных основ: дис. д-ра филос. наук. Омск, 2002.
- Прилукова Н.Г. Теле-виртуальная реальность: гносеологический аспект: автореф. канд. филос. нау. Магнитогорск, 1999.
- Хайм М. Метафизика виртуальной реальности//Исследования по философии современного понимания мира. М., 1995. Вып. 1.
- Хоружий С.С. Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности//Вопр. философии. 1997. № 6. С. 54 -71.
- Яцюк О.Г. Мультимедийные технологии в проектной культуре дизайна: гуманитарный аспект: автореф. д-ра ис-куствоведения. М., 2009.
- Hamraet F. Virtual reality. N.-Y., 1993.
- Heim M. The Metaphysics of virtual reality//Virtual reality theory, practice and promise Westport and London, 1991