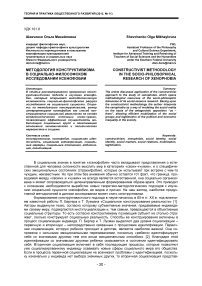Методология конструктивизма в социально-философском исследовании ксенофобии
Автор: Шевченко Ольга Михайловна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 11, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается применение конструктивистского подхода в изучении ксенофобии, который открывает методологическую возможность социально-философского ракурса исследования ее социальной сущности. Опираясь на методологию конструктивизма, автор интерпретирует ксенофобию как способ конструирования социальной реальности на основе антагонистической оппозиции «свои-чужие», позволяющей эффективно осуществлять мобилизацию социальных групп и легитимацию отношений экономического и политического неравенства в социуме.
Конструктивизм, ксенофобия, социальная идентичность, социальная категоризация, социальные маркеры, социальные отношения, мобилизация, легитимация
Короткий адрес: https://sciup.org/14934952
IDR: 14934952 | УДК: 101.8
Текст научной статьи Методология конструктивизма в социально-философском исследовании ксенофобии
В социальном знании в понятие «ксенофобия» часто вкладывают представления о естественной для человека склонности мыслить мир в категориях «свои»-«чужие», и о специфических эмоциональных состояниях (страхи/фобии), которые он испытывает при встрече с чем-то чуждым, неизвестным. Но при этом без внимания обычно остается тот факт, что граница, проводимая между «своим» и «чужим» не всегда является естественной, она социально организована и может сопровождаться целенаправленным формированием образа врага. Это приводит к осознанию необходимости выработки новых теоретико-методологических подходов к изучению социальной сущности ксенофобии, ее видов и причин. На наш взгляд, наиболее продуктивной методологией в данном исследовании может стать конструктивизм.
Формирование конструктивистского подхода в науке началось в 60-е гг. ХХ в. под влиянием известной работы П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конструирование реальности» [1]. Авторы выдвинули тезис, согласно которому субъективные значения, придаваемые индивидами своему миру, подвергаются институциализации и, тем самым, превращаются в объективные социальные структуры. То есть согласно конструктивизму познающий субъект не столько отражает, сколько конструирует социальную реальность. Способы ее конструирования включены в процесс социализации индивида. П. Бергер и Т. Лукман выделяют два уровня социализации – первичную и вторичную – непосредственно связанные с процессами идентификации. Первичная социализация, которую ребенок проходит в детстве, является наиболее важной. Она сопряжена с сильными эмоциональными переживаниями, поскольку «ребенок идентифицирует себя со значимыми другими тем или иным эмоциональным способом» [2]. Благодаря этой идентификации со значимыми другими ребенок оказывается в состоянии идентифицировать себя. Вторичная социализация включает в себя последующие процессы, которые позволяют уже социализированному индивиду осваивать новые сферы социального мира его общества. Если в процессе первичной социализации не возникают проблемы с идентификацией, поскольку изначально у индивида нет выбора значимых других, то вторичная социализация представ- ляет собой освоение сложных институциональных структур общества. Наиболее важным инструментом социализации выступает язык. П. Бергер и Т. Лукман обращают внимание на такую способность языка как упрощение институциональных значений социального мира, которое осуществляется посредством стереотипизации, что гарантирует их лучшую запоминаемость и делает процесс социализации более эффективным.
На наш взгляд, данный подход открывает методологическую возможность для понимания социальной сущности ксенофобии, поскольку предлагает рассматривать социальный порядок как результат схематизации человеком социального мира. Это позволяет нам интерпретировать ксенофобию как способ конструирования социальных отношений в социуме на основе ан-тогонистической оппозиции «свои-чужие».
В научном дискурсе преобладают два подхода к объяснению социальной категоризации. В рамках первого подхода социальная категоризация трактуется как познавательный механизм, упрощающий и ускоряющий переработку индивидом многообразной и противоречивой информации (С. Московичи). В рамках второго подхода она выводится из присущего человеческой психике стремления к положительной самооценке, основанной на межгрупповом сравнении (Г. Тэджфел). Но и в том, и в другом случае категоризация рассматривается как важнейший способ создания представлений о существовании неких групп, объединяемых общими характеристиками, а тем самым и конструирования реальности, поскольку, для того, чтобы объект стал реальностью, его необходимо категоризировать и вербально обозначить.
Соответственно, управление процессом социальной категоризации одновременно означает и управление формированием образа мира. Это достигается через внедрение в массовое сознание критериев, по которым производится категоризация. Однако чтобы из представления о делении общества на группы возникло представление о «своих» и «чужих», субъект категоризации должен отнести себя к одной из таких групп. В этом «отнесении» себя к определенной группе и заключается другой важный с точки зрения формирования картины мира процесс -идентификация.
На это обращают внимание П. Бергер и Т. Лукман, когда пишут о том, что «идентичность формируется социальными процессами» [5]. В процессе идентификации индивид осознает свою групповую принадлежность, то есть соотносит свою индивидуальность с групповой системой ценностей и норм. Групповая идентификация позволяет индивиду осознать непрерывность своего существования в системе поколений и в контексте исторического процесса. Однако идентичность - это не только объединение, отождествление себя с определенной общностью, но и противопоставление, конфронтация: «мы-они», «свои-чужие».
Важно отметить, что в структуре идентификации принято выделять две разновидности: позитивную и негативную. Процесс идентификации всегда сопровождается противоборством этих двух составляющих. Если в течение позитивной идентификации акцентируются положительные самопредставления и сопутствующие им чувства (гордость, достоинство, комфортность, солидарность), то негативная идентификация предполагает негативные оценки других и тотальное противопоставление «нас»-«им».
Социально конструируемая граница между «своим» и «чужим» мирами позволяет устанавливать социальную дистанцию между ними и поддерживать идентичность группы. Таким образом, можно констатировать, что базовыми элементами ксенофобии являются процессы категоризации и идентификации, посредством которых сообщество конструирует социальную реальность.
Между ксенофобией и процессами категоризации и идентификации прослеживается как генетическая, так и функциональная связь. Генетическая связь выражается в том, что ксенофобия является следствием идентификации, то есть индивид сначала определяет другого индивида в качестве «чужого» и лишь потом способен испытывать к нему негативные эмоции. Функциональная связь ксенофобии и идентичности проявляется в том, что ксенофобия закрепляет границы группы на уровне самосознания. Она задает «горизонт» группового сознания «мы-они», «свои-чужие», используя подозрительность, недоверие, ненависть к «чужим» как основу социальной консолидации.
Такая тесная зависимость между ксенофобией и идентичностью позволяет нам интерпретировать ксенофобию как способ организации социальных отношений между людьми на основе оппозиции «свои-чужие». Социальные отношения – это, прежде всего, отношения между людьми по поводу понимания равенства, социальной справедливости, распределения жизненных благ, условий удовлетворения материальных, социальных и духовных потребностей. Конструирование этих отношений осуществляется посредством языка. Язык позволяет объективировать коллективный опыт и передать членам своей лингвистической общности представления о «своих» и «чужих».
Опираясь на подход П. Бергера и Т. Лукмана относительно языка как средства конструирования социальной реальности, мы полагаем, что именно язык формирует и закрепляет схемы классификации социальных групп в обществе и осуществляет трансляцию представлений о «чужих», часто наполненных дискриминационной семантикой из поколения в поколения.
Понимание ксенофобии как способа организации социальных отношений на основе антагонистической оппозиции «свои-чужие» позволяет нам вычленить его основные характеристики:
-
1. Бинарность в конструировании социальных отношений. Стремление разделять мир на «своих» и «чужих» является одной из базовых установок процесса идентификации и центральным механизмом ксенофобии. Несмотря на то, что каждая культура наполняет образ «чужого» своим конкретным содержанием, он является универсалией, посредством которой происходит идентификация «своей» общности и выстраивание отношений с «чужой» («чужими»). Бинарность в конструировании социальных отношений всегда предполагает наличие структурной оценки «своих» и «чужих». Структурная оценка проявляется в оппозиционно-этизированной категоризации значений межгрупповых отношений («хорошие-плохие»). Признаком ксенофобии выступает жесткая поляризация оценок и категоричность суждений относительно «своих» и «чужих». Происходит консолидация и поляризация негативных и позитивных суждений. Она производна от резкости границ между «хорошим» и «плохим», отсутствием переходов между ними. Возникающая граница позволяет устанавливать и поддерживать правила поведения внутри группы («племенная этика») и нормы поведения вне ее.
-
2. Негативизм по отношению к «чужим». Социально-психологические исследования свидетельствуют о том, что при восприятии чужого как неизвестного, незнакомого, несмотря на характерную амбивалентность чувств, преимущественно имеет место сдвиг эмоционального восприятия скорее в негативную, чем в позитивную сторону. Одной из базовых человеческих эмоций, определившей выживание человека в полном опасностей мире, мобилизующей его на защиту от внешней угрозы, является страх. Противоречивость и сложность ксенофобии как социального явления определяется также непростой сутью чувства страха, лежащего в его основе.
-
3. Враждебность по отношению к «чужим». Эмоциональные механизмы, которые «выключают» «чужого» из зоны действия принятых моральных норм, являются катализаторами социального насилия. Связь эмоций (страха, гнева, отвращения, презрения, зависти) с активными формами агрессии подтверждается этнографами, изучающими жизнь первобытных племен. Они отмечают тесную связь между высокой степенью возбудимости и быстротой перехода от дружелюбного состояния к агрессивному. Эта агрессия может направляться и на соплеменников, если они, даже косвенно, не желая этого, способствуют разрушению привычной картины мира племени.
Гипертрофированное стремление человека отождествить себя исключительно с одной группой приводит к формированию групповой гиперидентичности, для которой характерен дисбаланс в пользу позитивного образа своей группы. Так происходит движение от естественного предпочтения собственной группы к абсолютной убежденности в ее превосходстве над «чужими».
По мнению отечественных исследователей, демонизация образа «чужого» присутствует во всех политических и культурных коллизиях истории человечества [8]. Как пишет А.К. Якимович: «…начиная с Геродота конфликты среди человеческих сообществ мифологизируются по одной и той же схеме: наши описываются как носители культуры и человеческих ценностей, а чужие – как варвары, дикари, зверообразные нелюди» [9, с. 48]. Такая негативная оценка «чужих», как неотъемлемый компонент ксенофобии, оправдывает любые формы насилия по отношению к ним.
Наряду со страхом, исследователи выделяют такие эмоциональные элементы ксенофобии как гнев, отвращение, презрение (М.В. Кроз, Н.А. Ратинова) [10]. Именно эти чувства представляют собой эмоциональные механизмы, которые «выключают» «чужого» из зоны действия принятых моральных норм и, тем самым, катализируют направления социального насилия. Таким образом, эмоции являются межличностными маркерами, информирующими о состоянии наших отношений с другими людьми.
Одной их эмоций, способных провоцировать ксенофобию, наряду с гневом, отвращением, презрением, является зависть. Глубокий анализ этого чувства дан немецким социологом Г. Шеком [11]. Он рассматривает зависть как социально-психологическое явление и как мотив социального поведения человека. На наш взгляд, зависть как социально-психологическое состояние способна провоцировать негативизм как в межличностных, так и в межгрупповых отношениях. Таким образом, аффективная составляющая ксенофобии (страх, гнев, отвращение, презрение, зависть) выступают основой негативных реакций на «чужаков», в том числе и враждебных.
Однако враждебность по отношению к «чужим» имеет не только психологическую, но социальную основу. Социальный характер враждебности проявляется в том, что человек способен проявлять агрессию по отношению к идентифицируемым «чужим» не только в ситуации реальной опасности, но и в ситуации ее отсутствия на основе предвидения или проецировании ее в будущем, а также на основе внушения, что угроза реально существует. Как верно отмечает Э. Фромм: «...большинство современных войн <...> были подготовлены именно пропагандистским нагнетанием угрозы, лидеры убеждали население в том, что ему угрожает опасность нападения и уничтожения, и так воспитывалась ненависть к другим народам, от которых якобы исходила угроза. На самом деле угроза была чаще всего чистой фикцией» [12, с. 167]. Тем самым враждебность по отношению к тем, кто идентифицировался в качестве «чужого», конструировалась посредством различных надбиологических систем - языка, мифологических моделей мира, религиозных верований.
В конструировании социальных отношений используются различные критерии для выделения «чужих», определяющие объектную направленность ксенофобии. Поэтому целесообразно учитывать специфику социальных маркеров, оформляющих границу в отношениях «свои-чужие». Социальные маркеры - это набор символов, задающих доминирующие критерии идентификации личности или группы. Вместе с тем, мы отдаем себе отчет в условности классификации вообще, в том числе и этой. Однако данная процедура позволяет упорядочить представления о ксенофобии в научном дискурсе и выделить ее основные виды. Вид ксенофобии - это социально сконструированный негативный образ «чужого» на основе идентификационных маркеров, доминирующих в конкретно-исторический период развития общества. Наиболее распространенными видами ксенофобии, хотя и редко проявляющимися в чистом виде, являются следующие: этническая ксенофобия (этнофобия), религиозная ксенофобия, расовая ксенофобия, национальная ксенофобия, антисемитизм, идеологическая ксенофобия и т.д.
На наш взгляд, именно методология конструктивизма открывает возможность исследования социальной сущности ксенофобии. Социальный характер ксенофобии проявляется в том, что она, во-первых, тесно связана с социальной идентичностью, задающей набор ключевых маркеров, на основе которых осуществляется идентификация «своих» и «чужих»; во-вторых, ксенофобия выступает защитно-компенсаторным механизмом закрепления и сохранения идентичности; в-третьих, является способом легитимации отношений экономического и политического неравенства в социуме; в-четвертых, ксенофобия представляет эффективный инструмент политической мобилизации социальных групп (этнических, религиозных, национальных и т.п.) для реализации своих целей.
Таким образом, являясь достаточно сложным и противоречивым социальным явлением, ксенофобия, с одной стороны, выступает одной из форм социально-психологической защиты индивида и группы в непредсказуемом и опасном мире, а с другой – является эффективным инструментом перераспределения экономической, политической, культурной власти в мире, посредством конструирования «фобии чужого».
Ссылки: