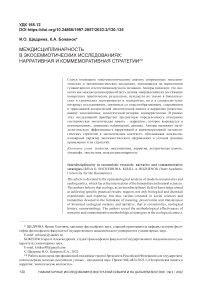Междисциплинарность в экосемиотических исследованиях: нарративная и коммеморативная стратегии
Автор: Щедрина Ирина Олеговна, Боженок Кирилл Александрович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 2 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена эпистемологическому анализу современных экосемиотических и эколингвистических дисциплин, находящихся на пересечении гуманитарного и естественнонаучного познания. Авторы полагают, что экология как междисциплинарная область знания, направленная на достижение конкретных практических результатов, нуждается не только в биологических и химических экспериментах и экспертизах, но и в социально-гуманитарных исследованиях, связанных со смыслообразованием, сохранением и трансляцией исторической экологической памяти и нарратива (повествования): экосемиотике, экологической истории, эконарратологии. В рамках этих исследований приобретает предметную определенность отношение «историческая экологическая память - нарратив», которое выражается в воспоминаниях, дневниках наблюдений, архивах. Авторы выявляют методологическую эффективность нарративной и коммеморативной методологических стратегий в экологическом контексте, обосновывая междисциплинарный характер экосемиотического направления и уточняя границы применения этих стратегий.
Экология, экосемиотика, нарратив, историческая память, ландшафт, экосистема, междисциплинарность
Короткий адрес: https://sciup.org/170195087
IDR: 170195087 | УДК: 165.12 | DOI: 10.24866/1997-2857/2022-2/130-135
Текст научной статьи Междисциплинарность в экосемиотических исследованиях: нарративная и коммеморативная стратегии
Начиная с середины прошлого столетия экологическая проблематика перестала находиться в ведении исключительно естественных наук, поскольку внутри нее все сильнее стали звучать социально-гуманитарные смыслы. В самом деле, сфера экологической проблематики уже не исчерпывалась составлением биологических, химических, геологических прогнозов. Наука стала понимать, что исследование рисков техногенной цивилизации должно учитывать че-ловекоразмерность экологических систем, их исключительно социобиологический статус [1]. Вот почему исследователи, работающие с экологической проблематикой, стремящиеся рационализировать природопользование и выявить технологические риски внедрения инноваций, все чаще обращаются к знаково-семиотическим и культурно-историческим подходам. О необходимости философского и гуманитарно-научного осмысления проблем, связанных со взаимодействиями такого типа, на базе биологии говорит У.С. Струговщикова: «Биосемиотика может помочь в решении проблем коммуникации, позволяя увидеть опосредующие связи, создающие глобальные экологические сети. Контакт человека с природой, с растениями ‒ это процесс коммуникации, и фитосемиотика ‒ один из инструментов для контакта с растениями, которые создают свой собственный семиотический язык, язык, с которым мы стараемся войти в коммуникацию» [3, с. 129]. Такой поворот к междисциплинарности позволяет взглянуть на предлагаемые экологические проекты в новых ракурсах, дает возможность просчитать возможные риски, а самое главное – сформировать эффективное экологически-ответственное отношение к окружающему миру у последующего поколения.
Просвещенческие функции экологии реализуются как раз в культивировании такого отношения к миру (в том числе и к миру культуры!), когда необходимо не только формулировать общие правила экологического поведения, не только описывать произошедшие экологические катастрофы, но и формировать персонально-личностное, культурно-историче- ски ориентированное экологическое сознание. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы разработка научного экологического знания опиралась на методологические стратегии, ориентированные когнитивным потенциалом нарратива и исторической памяти.
Экологи (и ученые-практики, и теоретики) обратили внимание на функциональные возможности, которые предоставляют нарратив и историческая память. Возникают новые научно-гуманитарные сообщества (например, Ассоциация изучения литературы и окружающей среды) и периодические издания («Междисциплинарные исследования в области литературы и окружающей среды», «Экологическая история», «Экологические гуманитарные науки», «Окружающая среда и история» и т.д.). Появляются такие научные направления, как экологическая история, экосемиотика, экогерменевтика, экокритицизм. В каждом из них, так или иначе, происходит обращение к нарративной и коммеморативной методологическим стратегиям, что позволяет персонализировать «общую» проблему экологии, сделать ее личной для каждого; это особенно важно, поскольку таким образом в новом свете предстает одна из ключевых задач современности ‒ образование и формирование экологического сознания, буквально – ценностный, образовательный аспекты. В едином поле оказываются окружающая среда, мир, культура и человек. То, что пронизывает эту общую сферу взаимодействия, не только на географическом, пространственном уровне, но и на культурном уровне, ‒ смыслы. Культура и смыслы оказываются в положении кореллятов, когда речь заходит об экологии, и способ выражения их ‒ нарратив и история, память (см.: [8; 14; 15]).
Так, междисциплинарный характер экосемиотики обеспечивает широкую сферу применения нарративных и коммеморативных стратегий, причем как на фундаментальном, так и на прикладном уровнях. Темы нарратива и памяти, таким образом, обретают новые грани в контексте знаково-семиотического и культурно-исторического подходов к экосемиотике. Первый ‒ потому, что экосемиотика, раскрываемая в стратегиях нарратива и коммеморации, является областью семиотики как таковой; второй ‒ поскольку сохранение и дальнейшая трансляция уже полученных экологических смыслов осуществляется именно в культурно-историческом ключе, причем на базе как естественных, так и искусственных экосистем. Более того, область соотношения двух этих типов экосистем ‒ отдельная область исследований, которая требует широкого междисциплинарного плана ‒ от философии культуры до ландшафтного дизайна: «В контексте экологических технологий это можно интерпретировать как создание коалиции с экологической сетью экосистемы, частью которой является конкретная культура, способствующая выполнению функций устойчивости. В этом случае экосистемные процессы принимаются на некую метамодель технологического дизайна, а экологический подход можно определить как биомиметический» [3, с. 129–130].
Впервые термин «экосемиотика» был введен В. Нётом в 1996 г. [11]. Экосемиотика – относительно молодая дисциплина, связывающая экологию с семиотикой, антропологией и «зеленой» экономикой. В данном случае фундаментом становится функционирование знаков в культуре, как во взаимосвязи с другими живыми существами, так и в контексте работы на уровне сообществ и ландшафтов. Взаимодействие и процесс коммуникации, а также все, что с этим связано (средства, способы передачи опыта, варианты интерпретаций), также оказываются в общих методологических разработках. Авторы одной из ключевых статей по экосемиотике Тимо Маран и Калеви Кулл выделяют восемь принципов экосемиотики1:
Структура экологических сообществ основана на семиотических связях;
Изменение знаков может изменить существующий порядок вещей. Живые организмы изменяют свою среду на основе собственных образов этой среды;
Семиозис регулирует экосистемы. Смыслоо-бразование как стабилизирует, так и дестабилизирует их;
Человеческий символический семиозис (с его способностью к деконтекстуализации) и деградация окружающей среды тесно связаны между собой;
Энергетически и биогеохимически человеческая культура является частью экосистемы. Семиотически культура является частью и метауровнем семиотической экологической сети;
Окружающая среда как пространственно-временное проявление экосистемы функционирует как интерфейс семиотических и коммуникативных отношений;
Нарративное описание не подходит для описания экологического семиозиса;
Концепция культуры неполна без экологического измерения. Теория культуры неполна без экосемиотического аспекта.
В контексте данной статьи необходимо уточнить седьмой пункт: нарративное описание экологического события, по мысли Кулла и Марана, всегда метафорично. Оно может быть неизбежным как часть иконического моделирования экологических событий, однако «следует признать, что само нарративное описание (в том числе в науках и искусствах) является частью высокоуровневой интерпретации человека и имеет тенденцию порождать символизацию, когда возвращается в окружающую среду» [10, p. 46]. Фактически человек «вчитывает» и «вго-варивает» смыслы в окружающую среду, в то время как на уровне базового взаимодействия в экосистеме присутствие нарратива ‒ вопрос спорный (cм. об этом подробнее: [5; 6; 9; 12]).
Неудивительно, что Кулл и Маран называют карты одним из основных объектов такого рода исследования. Исследователи приводят в пример методологические разработки А. Фарины, посвященные семиотическому изучению ландшафтов. Введенный им термин «экополе», связанный с понятием «жизненный мир» Я. фон Икскюля, подразумевает участок ландшафта, который позволяет обитателям поддерживать определенные виды жизнедеятельности ‒ экологическое, интерференционное пространство, в котором действуют механизмы сбора энергии, ее концентрации, запасания, сохранения и манипулирования ею [7]. Кулл и Маран предлагают расширить возможные варианты применения модели экополя, распространив ее также на пространство взаимодействия человека и природы.
Некоторые исследователи, однако, идут еще дальше: например, К. Уоткин подчеркивает значимость нарративной идентичности и биосемиотики для формирования нашего представления о т.н. «не-человеческом» мире (в данном случае подчеркивается не столько природный
(VS антропогенный), сколько именно не касающийся человека «non-human» статус пространства). По мнению Уоткина, это может дать возможность пересмотреть антропоцентрическое представление о нарративной идентичности в тот момент, когда решения наиболее важных глобальных вопросов должны все дальше выходить за рамки сугубо человеческого (и) культурного мира. Нарратив в данном случае выступает в качестве особой методологической стратегии, позволяющей транслировать память и опыт и, одновременно, излагать историю. Повествование, по своему определению, включает в себя элементы взаимодействия человека и экологии. Такого рода нарратив фигурирует как модель взаимодействия экологического и экзистенциального элементов в культуре, призванный обозначить методологию работы с экосистемой изнутри и снаружи, во избежание катастроф или же ради восстановления после оных. В таком случае на переднем плане оказывается исторический ракурс экологического события (быстрого, например, катастрофы, или же протяженного во времени, например, сукцессии). Ученые-гуманитарии осознают необходимость интеграции экологии и истории, причем истории как рассказа и истории как исторической памяти.
Так, Пeтер Сабо подчеркивает, что история является важной частью экологии [13]. По мысли ученого, история необходима для экологии в трех главных аспектах: потому что она помогает понять текущие закономерности и процессы в природе; потому что это способствует принятию более обоснованных управленческих и политических решений; потому что экология и охрана окружающей среды рассматриваются в более широком междисциплинарном контексте. Указанная междисциплинарность также становится плацдармом для привнесения новых смыслов в, казалось бы, привычные и устоявшиеся термины и понятия. Но если обратиться, например, к понятию ландшафта, поскольку оно является одним из ключевых понятий исторической экологии и обеспечивает общую платформу для исследования физической среды и деятельности человека, пишет Сабо, это создает свои собственные междисциплинарные трудности. Общего словарного запаса ученых зачастую недостаточно для достижения общего понимания; на самом деле одни и те же слова и выражения часто имеют разное значение в разных дисциплинах, что приводит скорее к путанице, чем к сотрудничеству. Более того, ученые-естествоиспытатели и историки могут смотреть на один и тот же ландшафт, но при этом видеть порой диаметрально противоположные конфигурации и извлекать из того, что видят, разные уроки. Принципиально важным для междисциплинарного взаимодействия становится умение видеть общие смыслы и задавать общие вопросы (см. подробнее: [13, p. 384]). Особенно если речь идет об изначально семиотически-нагруженном пространстве экосистемы. В таком случае на помощь приходит нарративная стратегия.
Характерным примером экологического нарратива, совмещающего междисциплинарный характер экосемиотического исследования и гуманитарный пласт задач прикладного характера, является «Письмо заведующего лесопарком государственного музея-усадьбы “Ясная поляна” К.С. Семенова академику С.Г. Струмили-ну о проблемах охраны леса»: «Работаю скоро 4 месяца в ясной поляне в качестве заведующего лесопарком и за это время вполне ясно выяснил себе темные и светлые стороны работы. Основная задача: восстановить леса заповедника и поддерживать их в таком состоянии, как они были в последние годы жизни Л.Н. Толстого. Конечно, лес не может сохраняться в неизменном виде, как какой-нибудь музейный объект, а потому постановка вопроса чрезвычайно усложнена и приходится комбинировать: с одной стороны, сохранение памятных деревьев и насаждений, посаженных Толстым, с другой стороны, принимать меры к созданию новых насаждений, повторяющих то, что было при Толстом. Работа сводится к проведению мер, сохраняющих жизнь старых деревьев, к оздоровлению лесов выборкой мертвого и больного, к рубкам, ведущим к созданию желательных насаждений, к новым посадкам и подсадкам деревьев. В то же время надо охранять лес от лесонарушителей и снабжать музеи и усадьбы топливом и деловым лесом. Работа сосредоточивается на небольшой территории около 300 га, но весьма разнообразна, требует разносторонних знаний и может быть сильно углублена» [2, c. 198‒199]. Такой взгляд на работу, связанную одновременно с сугубо прикладными, экологическими задачами и с семиотическим содержанием, позволяет говорить и о важности исторической экологии. Это особая дисциплина, которая соотносится с уникальными географическими объектами и их историческим развитием. История как на- ука ориентируется на конкретные места и события; исторические исследования поясняют, почему определенное место является особенным, почему оно, в сущности, может являться местом памяти. Экологическая история в данном случае – не исключение. Так, П. Сабо настаивает на приоритете в рамках экологической истории грамотного отношения, «увековечивания гения места», а не приведения ландшафта в соответствие тому образу и представлению, которое мы имеем о нем сейчас, с нынешним уровнем знаний. Тем более, что такая стратегия позволит сохранить те черты природного пространства, которые кажутся на первый взгляд аномальными; однако знание истории позволит исследователю осознать и принять неточность и недостаточность представления о работе изучаемой экосистемы (см. подробнее: [13, p. 383]). В определенном смысле историческая экология становится «музейной» экологией, в первую очередь – когда работа с природным участком переориентируется на создание заповедной зоны. Обращение к коммеморативной стратегии в таком ключе также может сориентировать исследование в сторону сохранения и самой системы, и знания о ней, и трансляции этого знания в нарративной форме следующим поколениям (как в случае с лесным массивом «Ясной Поляны»).
Индивидуальная память и опыт, выраженные в нарративе, направлены на сохранение экосистемы и, одновременно, оказывают воздействие на читающего, способствуя формированию экологического сознания. «В современных экосе-миотических исследованиях обосновывается необходимость объединения культурной и биологической семиотики и важность изучения природной и социокультурной памяти, сохраняемой и передаваемой различным и естественными и конвенциональными знаковыми системами» [4, c. 100]. Таким образом, реализуется еще одна функция нарративной и коммеморативной стратегий в экосемиотике ‒ образовательно-просветительская. На культурном уровне оказываются связаны не только представители одного поколения, но те, кто могут познакомиться с экологическими нарративами много лет спустя после их написания. Экосемиотика, в силу своей междисциплинарности, становится знаково-семиотическим и культурно-историческим плацдармом для того, чтобы акцентировать внимание на конкретном «человеке познающем» в сфере экологической культуры.
Список литературы Междисциплинарность в экосемиотических исследованиях: нарративная и коммеморативная стратегии
- Данилова М.И., Суховерхов А.В. Биологические и социальные основы эволюции языка и коммуникации: современные дискуссии // Вопросы философии. 2015. № 12. С. 77-87.
- Письмо заведующего лесопарком государственного музея-усадьбы «Ясная поляна» К.С. Семенова академику С.Г. Струмилину о проблемах охраны леса // Экология и власть. 19171990: документы. М.: МФД, 1999. C. 198-199.
- Струговщикова У.С. «Зеленый» тренд становящейся культуры будущего // Вопросы философии. 2021.№ 12. С. 127-130.
- Суховерхов А.В. Проблема соотношения языка и мышления в современной эколингвистике и экосемиотике // Язык. Культура. Общество: сборник статей по материалам межвузовской научно-методической конференции, посвященной 85-летию образования кафедры иностранных языков. Краснодар: КубГАУ, 2016. C.95-105.
- Caracciolo, M., 2020. We-narrative and the challenges of nonhuman collectives. Style, Vol. 54, no. 1, pp. 86-97.
- Caracciolo, M., Marcussen, M. and Rodriguez, D. eds., 2021. Narrating nonhuman spaces: form, story, and experience beyond anthropocentrism. Ney York: Routledge.
- Farina, A. and Belgrano, A., 2006. The eco-field hypothesis: toward a cognitive landscape. Landscape Ecology, Vol. 21, no. 1, pp. 5-17.
- Heersmink, R., 2020. Narrative niche construction: memory ecologies and distributed narrative identities. Biology & Philosophy, Vol. 35, article no. 53.
- Herman, D., 2018. Narratology beyond the human: storytelling and animal life. New York: Oxford University Press.
- Maran, T. and Kull, K., 2014. Ecosemiotics: main principles and current developments. Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, Vol. 96, no. 1, pp. 41-50.
- Noth, W., 1996. Okosemiotik. Zeitschrift fur Semiotik, Vol. 18, no. 1, pp. 7-18.
- Shang, B., 2022. Towards a theory of nonhuman narrative. Neohelicon. https://doi. org/10.1007/s11059-022-00628-y
- Szabo, P., 2010. Why history matters in ecology: an interdisciplinary perspective. Environmental Conservation, Vol. 37, no. 4, pp. 380-387.
- Watkin, Ch., 2015. Michel Serres' great story: from biosemiotics to econarratology. SubStance, Vol. 44, no. 3, pp. 171-187.
- Zellmer, A.J., Allen, T.F.H. and Kesseboehmer, K., 2006. The nature of ecological complexity: a protocol for building the narrative. Ecological Complexity, Vol. 3, no. 3, pp. 171-182.