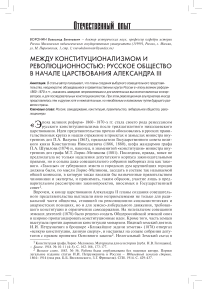Между конституционализмом и революционностью: русское общество в начале царствования Александра III
Автор: Воронин Всеволод Евгеньевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 4, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье автор показывает, что планы создания выборного совещательного представительства, неоднократно обсуждавшиеся в правительственных кругах России в «эпоху великих реформ» 1860-1870-х гг., оказались заведомо неприемлемыми и для влиятельных высокопоставленных консерваторов, и для последовательных конституционалистов. При этом революционная альтернатива иногда представлялась тем и другим хотя и нежелательным, но неизбежным и возможным путем будущего развития страны.
Россия, самодержавие, конституция, правительство, либеральное общество, революционеры
Короткий адрес: https://sciup.org/170195197
IDR: 170195197 | DOI: 10.31171/vlast.v30i4.9142
Текст научной статьи Между конституционализмом и революционностью: русское общество в начале царствования Александра III
«Э поха великих реформ» 1860–1870-х гг. стала своего рода ренессансом русского конституционализма после тридцатилетнего николаевского царствования. Идеи представительства прочно обосновались в русских правительственных кругах и нашли отражение в проектах и замыслах министра внутренних дел П.А. Валуева (1863), председателя Государственного совета великого князя Константина Николаевича (1866, 1880), шефа жандармов графа П.А. Шувалова (1874) и, наконец, в знаменитой «конституции» министра внутренних дел графа М.Т. Лорис-Меликова (1881). Последняя, правда, вовсе не предполагала не только наделения депутатского корпуса законодательными правами, но и созыва даже совещательного собрания выборных лиц как такового. «Гласные» от губернских земств и городских дум крупнейших городов должны были, по мысли Лорис-Меликова, заседать в составе так называемой общей комиссии, в которую также входили бы назначенные правительством чиновники и эксперты, и принимать, таким образом, участие лишь в предварительном рассмотрении законопроектов, вносимых в Государственный совет1.
Впрочем, к концу царствования Александра II планы создания совещательного представительства выглядели явно неприемлемыми не только для радикальной части общества, стоявшей на революционно-социалистических и анархистских позициях, но и для земско-либерального движения, требовавшего конституции и ограничения самодержавия. На нелегальном совещании земских деятелей (1878) было решено создать Общероссийский земский союз и широко пропагандировать конституционные идеи. Кроме того, часть земцев выступала против дарования конституции монархом. Видный земский деятель И.И. Петрункевич в брошюре «Ближайшие задачи земства» (1878) отвергал «всякую конституцию, данную сверху», и настаивал на созыве собрания депу татов с пра вом принятия Основного закона2. Нелегальный Земский съезд в
Москве (1879) не поддержал радикальные замыслы Петрункевича, но, тем не менее, образовал Земский союз для продолжения политической борьбы.
Сразу после цареубийства 1 марта 1881 г. старая славянофильская мечта о земском соборе нашла сторонников на самом верху. 4 и 5 марта 1881 г. брат «царя-освободителя» и «царя-мученика» Александра II великий князь Константин Николаевич, которому новое царствование сулило увольнение со всех высших постов, говорил своим близким сотрудникам «о необходимости Земского Собора как единственного средства, которое может теперь спасти бедную нашу растерзанную Матушку Россию»1. Эта мысль опального председателя Госсовета оказалась удивительно созвучной политическим требованиям революционеров-народовольцев. 10 марта 1881 г. исполком «Народной воли» в письме к императору Александру III высказался за «созыв представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями». Вожди революционной партии настаивали на проведении «совершенно свободных» выборов в «народное собрание» (по сути, в Учредительное собрание) по самым демократическим правилам – «от всех классов и сословий безразлично и пропорционально числу жителей»2. Итак, «Народная воля» предлагала царю отдать власть «народному собранию». Но вскоре правительство смогло разгромить и обезглавить революционную партию.
Новую – консервативную – линию правительства с первых дней царствования Александра III формулировал обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев – бывший наставник нового монарха, ставший его главным политическим советником. На заседании Совета министров 8 марта 1881 г., где решалась судьба «конституции» Лорис-Меликова, он предрекал «конец России» в случае одобрения данного «проекта», который, по его словам, «дышит фальшью». Обвинив министра внутренних дел в намерении «ввести конституцию, ‹…› сделать к ней первый шаг», Победоносцев назвал конституции западноевропейского типа «орудием всякой неправды, орудием всяких интриг» и заявил, что выборные лица не станут «действительными выразителями мнения народного». Подкрепленный одобрительными репликами царя («я думаю то же», «сущая правда…»), он подчеркнул: «Россия была сильна благодаря самодержавию ‹…› Так называемые представители земства только разобщают царя с народом». Свою речь Победоносцев окончил призывом не учреждать «новую говорильню» [Перетц 2018: 154-157]. Незыблемость самодержавия была подтверждена манифестом 29 апреля 1881 г., который означал победу партии Победоносцева и повлек за собой отставки графа М.Т. Лорис-Меликова, министра финансов А.А. Абазы, военного министра графа Д.А. Милютина и других правительственных либералов.
Однако ближайшее будущее показало живучесть замыслов создания выборного представительства не только в либеральном обществе, но и в самом правительстве. Новый министр внутренних дел граф Н.П. Игнатьев был обязан должностью Победоносцеву, но при этом строил куда более смелые и амбициозные расчеты, нежели его предшественник. Недаром Лорис-Меликов пророчески заметил государственному секретарю Е.А. Перетцу: «Вы увидите, Игнатьев пойдет дальше меня»3. В самом деле, весной 1882 г. Игнатьев с подачи москов- ских славянофилов И.С. Аксакова и П.Д. Голохвастова, состоявшего чиновником особых поручений при министре внутренних дел, попытался приурочить к коронации императора Александра III созыв земского собора [Глинский 1907: 272]. По проекту манифеста, коронация должна была состояться «пред собором высших иерархов церкви православной, высших чинов правительства, высших избранников дворянства и городов и нарочито выборных от земли»1. По мнению министра, земский собор воплощал бы собой единение царя и народа, прекращение недавней «смуты». Число «соборных чинов» (депутатов) могло достигать 1,5–3,5 тыс. при полном доминировании крестьян. Игнатьев даже успел заручиться поддержкой государя. Но дружный отпор со стороны издателя «Московских ведомостей» М.Н. Каткова и К.П. Победоносцева сорвал его планы. Передовая статья Каткова «Наша конституция» предупреждала об угрозе «торжества крамолы», исходящей от «сборища людей деморализованных и смущенных». Публицист напомнил и о том, что созыва «земского собора» требовали революционеры – «Нечаевы и Желябовы»2. Опираясь на доводы Каткова, Победоносцев переубедил царя. В письме к обер-прокурору 15 мая 1882 г. Александр III резюмировал: «… Гр. Игнатьев совершенно сбился с пути ‹…› так продолжаться не может. Оставаться ему министром трудно и нежелательно»3. Вскоре Игнатьев лишился своего поста.
Родоначальник русской политической науки, англоман и западник Б.Н. Чичерин в трудах «Собственность и государство» (1882–1883), «Философия права» (1900) и др. обосновал свою стройную теорию постепенной эволюции государственного строя от абсолютизма к конституционной монархии и парламентскому правлению. С Победоносцевым Чичерина связывали дружеские отношения. Чичерин не считал события 1 марта 1881 г. подходящим поводом к либеральным уступкам; он не выказывал сочувствия к замыслам графа М.Т. Лорис-Меликова, полагая, что о конституции «не могло быть речи в такое смутное время», когда необходимо «укрепить власть, а не ослаблять ее, подвергая ее ограничениям»4. Год спустя Чичерин обрушился на игнатьевскую затею с созывом земского собора. Он видел в славянофилах сторонников «демократического абсолютизма, т.е. худшего образа правления, какой есть на свете», а попытку графа Н.П. Игнатьева возродить земский собор называл «чистою комедией»5 и «фарсом»6.
Но царствование Александра III не оправдало надежд Чичерина. Он делился с Победоносцевым своими опасениями, что несостоятельная власть способна сама довести страну «до земского собора» и заставить ее «взять дело в свои руки»7. С начала 1882 г. Чичерин занимал выборную должность московского городского головы и в этом качестве принимал Победоносцева, побывавшего в первопрестольной летом того же года. В разговоре с ним Чичерин не скрывал, что крайне разочарован в состоянии высших сфер, и без обиняков возложил на собеседника вину за неудачный выбор лиц для замещения высоких постов: «Вы окружили престол грязью, так что он весь ею обрызган; вы вытащили из тьмы всякое отребье и вверили ему управление Россией ‹…› Вы восстаете против земского собора, но вы нас насильно наталкиваете на земский собор». Пытаясь спорить, Победоносцев окрестил земский собор «хаосом», но услышал в ответ: «Знаю, что это хаос; но из хаоса выходит новый мир, а из гнилого дерева ничего не выйдет, кроме разложения». Чичерин спросил: «Неужели вы в самом деле воображаете, что вы с вашею петербургскою гнилью в состоянии вывести Россию на правильный путь?» Победоносцев «уныло» дослушал собеседника, которому казалось, что теперь в нем видят «безвозвратно погибшего человека»1.
Создатель политико-правового учения о буржуазном обществе с гибкой и подвижной системой социальных и институциональных противовесов, Б.Н. Чичерин все чаще стал задумываться о неизбежности революционных катаклизмов, которые, однако, приведут к рождению «нового мира»: «Чувствуется, что пора наконец очиститься удушливому воздуху, который сделался невыносим; но когда соберется гроза? и что она за собою принесет? Можно предвидеть страшные катастрофы, погибель миллионов людей, но не видать еще ни малейшего облика того светлого мира, который водворится по миновании бури. Наши потомки увидят лучшие дни, а мы доживем разве только до разрушения»2.
Впрочем, К.П. Победоносцев нашел в себе силы признать правоту радикальных суждений Б.Н. Чичерина. По свидетельству главного цензора империи Е.М. Феоктистова, получая упреки в «бездействии» властей, ведущем страну «к страшным бедствиям», он дал на них свой «странный» ответ. Сетуя «на то, что никакая страна в мире не в состоянии была избежать коренного переворота», Победоносцев допускал, что «и нас ожидает подобная же участь», и добавил: «…революционный ураган очистит атмосферу». Удивленный собеседник отвечал «на это, что если все государства подвергались революционным потрясениям, то не было еще примера, чтобы правительство, так сказать, включало революцию в свою программу» [Феоктистов 1991: 219].
Список литературы Между конституционализмом и революционностью: русское общество в начале царствования Александра III
- Глинский Б.Б. 1907. Константин Петрович Победоносцев (материалы для биографии). - Исторический вестник. Апрель. С. 247-274.
- Перетц Е.А. 2018. Дневник (1880-1883) (сост. и науч. ред. А.А. Белых). М.: ИД "Дело" РАНХиГС. 512 с.
- Феоктистов Е.М. 1991. За кулисами политики и литературы (1848-1896). Воспоминания. М.: Новости. 460 с.