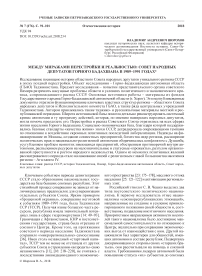Между миражами перестройки и реальностью: совет народных депутатов Горного Бадахшана в 1989-1991 годах
Автор: Шорохов В.А.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 7 (176), 2018 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено истории областного Совета народных депутатов уникального региона СССР в эпоху поздней перестройки. Объект исследования - Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) Таджикистана. Предмет исследования - попытки представительского органа советского Памира разрешить насущные проблемы области в условиях политического и экономического кризиса, сопровождавшего распад СССР. Основные источники работы - материалы из фондов Государственного архива Горно-Бадахшанской автономной области (г. Хорог). Эти неопубликованные документы отразили функционирование ключевых властных структур региона - областного Совета народных депутатов и Исполнительного комитета ГБАО, а также ряда центральных учреждений Таджикистана. Автором привлекались также таджико- и русскоязычные материалы местной и республиканской периодики. Широта источниковой базы помогла детально реконструировать системный кризис автономии и ту программу действий, которая, по мнению памирских народных депутатов, могла помочь преодолеть его. Перестройка и распад Советского Союза отразились на всех сферах жизни населения Горного Бадахшана. Социально-экономическая база, благодаря которой поддерживались базовые стандарты «качества жизни» эпохи СССР, деградировала опережающими темпами по отношению к воздействию скромных позитивных последствий либерализации. Надежды на финансирование из Москвы, создание совместных предприятий, богатства недр региона, расширение политических прав и национально-религиозной автономии оборачивались конфликтом с Душанбе, усугублением проблем немногих имеющихся предприятий, обострением противоречий внутри автономии, распылением ресурсов на малозначительные и статусные «прожекты», разгулом организованной преступности и ростом народного недовольства. Одним из немногих позитивных явлений рассматриваемого периода стало налаживание связей с религиозным главой большинства населения региона - Ага-ханом IV.
Распад ссср, история таджикистана, памир, горно-бадахшанская автономная область, совет народных депутатов
Короткий адрес: https://sciup.org/147226363
IDR: 147226363 | УДК: 94 | DOI: 10.15393/uchz.art.2018.234
Текст научной статьи Между миражами перестройки и реальностью: совет народных депутатов Горного Бадахшана в 1989-1991 годах
Ключевым событием периода дезинтеграции СССР стало образование национальных государств на базе бывших союзных республик. Этот стихийный процесс совершенно не зависел от наличия реальных предпосылок для суверенизации отдельных субъектов Союза. Ярким примером «брошенной окраины», совершенно неготовой к событиям 1989–1991 года, была Таджикская ССР (ТССР). Получая извне большую часть ресурсов, республика имела значительный потенциал лишь в сфере гидроэнергетики [14: 49–93]. Граничащая с Афганистаном, КНР и постсоветскими государствами, страна была отрезана от союзного Центра. Кроме того, на протяжении советского периода население Таджикистана сохранило «микрорегиональное» самосознание [36]. Имея столь незавидный «стартовый капитал», ТССР тем не менее не отставала от других субъектов Союза в стремлении «возродить» свою независимость [11], [16: 218–220], не считаясь с последствиями ликвидации единого экономичес-
кого пространства [23: 175–178], массового оттока населения [25: 121–122] и активизации региональных элит.
Российский этнолог С. В. Чешко выделил два типа постсоветского политического национализма. К первому исследователь отнес нацио-нализмы «союзнореспубликанских этнонаций», направленные на создание и усиление привилегированного положения своей общности и, соответственно, подавление иноэтничного населения. Приоритетным направлением активности носителей такого национализма было достижение максимальной самостоятельности по отношению к Центру, желательно при сохранении экономических выгод от взаимодействия с ним. Другой национализм был характерен для общностей, имевших автономии в составе республик. Подвергаясь дискриминации со стороны своих «старших братьев», они рассчитывали на помощь в союзной власти. Требованиями лидеров автономий были повышение статуса «их» субъектов до союзных республик или интеграция в состав РСФСР [33: 257–258]. В значительной степени эти чаяния совпадали с направлением мысли общесоюзной бюрократии. Весной 1990 года Верховный Совет СССР взял курс на автономизацию, приняв законы, призванные унифицировать статус союзных и автономных республик и сделать его федеративным. Крах этого проекта летом того же года привел фактически к победе «титульных» наций [35: 39–40]. Как отметил М. М. Худоёров, именно по второму сценарию развивалось национальное движение населения Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан (далее – ГБАО) [30: 47–48].
Цель исследования – проанализировать процесс дезинтеграции СССР на примере его наиболее удаленной и проблемной окраины. Проведенные в 2018 году изыскания в архиве ГБАО показали, что последовательным проводником политики перестройки на этой территории, протагонистом децентрализации управления в 1989–1991 годах был областной Совет народных депутатов (далее – СНД). Именно в стенах этого учреждения представители районов автономии пытались «сделать былью» как общесоюзные мечтания, так и конкретные земные чаяния своих избирателей. Поэтому изучение документальных материалов, отражающих ход работы Совета, позволяет в достаточной мере раскрыть драматизм событий тридцатилетней давности.
В рамках данной публикации мы ограничимся преимущественно описанием событий 1989 – весны 1991 года. Основа источниковой базы – материалы Государственного архива ГБАО имени Х. Бурибекова (г. Хорог). Большая часть используемых документов впервые вводится в научный оборот. Особую ценность для исследования представляют протоколы и решения сессий областного СНД за 1990–1991 годы (фонд 1, опись 49, дела 1–4), распоряжения Исполнительного комитета СНД ГБАО за 1989–1991 годы (фонд 1, опись 50, дела 1–6), а также постановления Президиума Верховного Совета и Верховного Совета Таджикистана (далее – ВСРТ; фонд 1, опись 48, дела 54 и 55). Эти фонды позволяют восстановить картину кризиса автономии и направления поиска новых путей ее развития.
Для реконструкции общественно-политической ситуации в ГБАО и Таджикистане в целом автор использовал статьи, интервью и информационные материалы главного периодического издания области – газеты «Бадахшони Совети» («Советский Бадахшан»), а также некоторых республиканских и общесоветских печатных органов (прежде всего «Адабиёт ва санъат» («Культура и традиция»), «Вечерний Душанбе», «Коммунист Таджикистана», «Памир», «Народная газета» и «Комсомольская правда»).
Что касается изученности темы, приходится констатировать скудость историографии, представленной обзорными статьями [21], [34] и исследованиями на другие темы с краткими экскурсами в историю Памира [15], [37], [38]. Единственным автором, целенаправленно изучавшим политические процессы ГБАО эпохи распада СССР, является М. М. Худоёров [29], [30].
Памир (Горный Бадахшан) – это горная система в центре Азии на территории Таджикистана, Китая и Афганистана. Население ГБАО в основном говорит на восточно-иранских языках и исповедует исмаилизм низаритского толка. Это сочетание обычно и является базой памирской самоидентификации. Насчитывается девять самостоятельных языков и диалектов, которые относятся к «древнеиранским группам языков» [28: 186]. Наиболее многочисленные из памирцев (шугнанцы, ваханцы, рушанцы) живут и в Таджикистане, и в Афганистане (а ваханцы также в Пакистане и Китае) [20: 103–113], [22: 9–11]. Кроме того, на территории ГБАО проживает ряд локальных фарсиязычных групп, как ассоциирующих себя с памирцами (горонцы, жители долины Кухилал, население четырех кишлаков таджикского Вахана), так и отделяющих себя от них (дарвазцы и ванджцы). Выделяется общность язгулямцев (не менее 7 тыс.), исповедующих суннитский ислам, но говорящих на восточно-иранском языке и считающих себя памирцами. Таким образом, большая часть населения Бадахшана представляет собой совокупность небольших культурно-языковых групп восточно-иранского лингвистического «круга», подвергающихся постепенной ассимиляции, преимущественно со стороны таджиков [6], [17], [18]. На Восточном (Мургабский район ГБАО) и Малом (Афганистан) Памире проживают преимущественно киргизы [5: 11–12], [8: 146–166].
Современная история Памира началась 2 января 1925 года с принятием ЦИК СССР постановления об образовании Горно-Бадахшанской автономной области в составе Таджикской Автономной ССР [24]. Когда в 1929 году Таджикистан превратился в «полноценную» республику, Памир сохранил свой статус [24: 18–19]. В послевоенный период, несмотря на сохранение ассимиляционного курса республиканских властей, были созданы предпосылки для «возрождения» памирской идентичности. Прежде всего этому способствовало своеобразие экономического развития ГБАО. На 80 % дотируемый из республиканского центра местный бюджет расходовался крайне нерационально, но обеспечивал повышение уровня жизни горцев. Присутствие пограничников в населенных пунктах долины Пянджа создавало дополнительные рабочие места. При этом, за исключением крайне неудачного эксперимента по переселению в долину Вахша, бадахшанцы оказались не затронуты процессами специализации хозяйства среднеазиатских республик [3]. Поэтому за пределами ГБАО они проживали в основном в Душанбе. Таким образом, численность, благосостояние и образование памирцев росли, не будучи подкреплены ни темпами развития хозяйства региона, ни значимой ролью в управлении республикой. Эти диспропорции дополнялись жестким административным давлением, призванным ускорить ассимиляцию горцев [13].
С другой стороны, значительный вклад советской власти в инфраструктурное развитие Таджикистана не мог не отразиться на ГБАО, где были созданы школы, больницы, электростанции, дороги, аэропорты. Грамотность населения выросла с 2 % в 1913 году до почти 100 % в 1984 году [19].
Согласно переписи 1989 года, на территории ГБАО проживало около 161 тысячи человек [4: 19]. Региональная экономика в значительной степени дотировалась из Москвы, а основным каналом снабжения автономии оставался Памирский тракт, шедший из города Ош, то есть с территории Киргизии. Группировка советских погранвойск была не только гарантом безопасности области, но и одним из главных экономических акторов региона.
В рамках децентрализации системы регионального управления с января 1990 до декабря 1991 года основная политическая активность населения области сконцентрировалась в СНД ГБАО. Этот орган за два года работы провел шесть сессий, одна из которых (четвертая) не нашла отражения в доступных нам архивных документах и описях, а шестая собралась уже после фактического распада Союза (в декабре 1991 года). Кроме того, активно действовал президиум СНД, готовивший повестку для сессий и контактировавший с республиканскими институтами. Об этом свидетельствует тот факт, что за первые полтора года работы было принято 113 решений, тогда как самим СНД – 981. Помимо 80 народных депутатов в сессиях Совета принимало участие до 130 представителей областной и районных администраций, силовых ведомств, предприятий и общественных организаций2. За первые пять сессий СНД ГБАО было рассмотрено 98 вопросов, важнейшие из которых публиковались в печатном органе региональной власти – «Бадахшони Совети». Это происходило за 15–20 дней до начала сессии для предварительного общественного обсуждения3.
Анализ персонального состава СНД – тема отдельного исследования. Тем не менее можно выделить ряд наиболее активных депутатов, которые в дальнейшем сыграли важную роль в истории горного Бадахшана и Таджикистана в целом. Прежде всего это избранный председателем СНД представитель Ванчского района, дарвазский таджик А. И. Искандаров. Являясь одновременно заместителем председателя ВС РТ, в 1990–1991 годах он был проводником интересов Памира в Душанбе. Кроме того, следует выделить будущего председателя СНД шугнанца Г. Ш. Шахбозова. Отметим также тот факт, что количество русскоязычного населения в ГБАО было мизерным, а его представители из числа народных депутатов (Е. В. Тургунов, А. С. Афанасьев) были пришлыми функционерами, роль которых на Памире неуклонно снижалась, прежде всего по причине их отъезда из неблагополучной области.
Таким образом, Советский Бадахшан в рамках перестройки получил «типовую» систему самоуправления, призванную решить вопросы, волнующие местное население. А вопросов этих накопилось немало.
Наиболее насущными были экономические проблемы. К лету 1989 года начался синхронный кризис транспортной инфраструктуры и системы снабжения области. Во многом он был связан с отголосками Гиссарского землетрясения и опол-знями4. Весной 1989 года была заблокирована единственная автодорога, соединявшая регион с Душанбе5. А в июне – августе в Хороге начались перебои в обеспечении предприятий водой, в свою очередь создавшие проблемы в снабжении крупнейшего населенного пункта области хле-бом6. Одновременно было парализовано авиасообщение с Душанбе, вызвавшее беспорядки в Хорогском аэропорту7. В 1990 году ситуация во многом повторилась – только на восстановительные работы после очередного землетрясения было выделено 8 млн рублей8. О реализации проектов развития можно было забыть. Было очевидно, что масштабной помощи от республиканских властей ждать не приходится. В этой ситуации народным депутатам ГБАО удалось «через голову» Душанбе инициировать принятие решения на союзном уровне. 26 июля 1990 года вышло постановление Совета Министров СССР «О некоторых мерах по социально-экономическому развитию ГБАО Таджикской ССР в 1991–1995 годах». Оно предусматривало комплексное развитие области и давало соответствующим министерствам конкретные задания по реализации этой программы. Например, Министерству энергетики СССР было поручено завершить строительство ГЭС «Памир-1» и приступить к проектированию ГЭС «Памир-2», Министерству промышленности – финансировать строительство фармацевтического завода в Хороге9. Правда, как следует из документов, обнаруженных нами в архиве, в августе 1990 года реализацию части мер, указанных в постановлении, поручили Совету Министров ТССР. Последний явно пытался пересмотреть масштабы проекта, исходя из «реальных возможностей», а также «учитывая предстоящую с 1 января 1991 года работу в условиях перехода на рыночную экономику, самоуправления и са-мофинансирования»10. Немаловажной «фигурой умолчания» в данном случае был факт принятия
24 августа «Декларации о государственном суверенитете ТССР»11, которая ставила под сомнение саму возможность Москвы принимать решения о социально-экономическом развитий регионов республики. В итоге из всех предусмотренных постановлением мер была реализована только достройка гидроэлектростанции «Памир-1».
Деградация социально-экономического облика ГБАО «гармонично» резонировала с возраставшей напряженностью на границе с южным соседом. Официальный вывод Ограниченного контингента советских войск с территории Афганистана, завершившийся 15 февраля 1989 года, привел к осложнению региональной военно-политической обстановки. Только за 1990 год на советско-афганской границе было зафиксировано 113 столкновений [26: 233]. При этом в районах Афганистана, прилегающих к ГБАО, активные боевые действия не велись. Тем не менее документы из областного архива показывают, что ситуация на границе была далека от нормальной. Картину роста угрозы «из-за реки» в 1990 – начале 1991 года дают материалы пятой сессии СНД ГБАО (12–13 апреля 1991 года). Пограничные проблемы обсуждались с участием начальника 66-го (Хорогского) пограничного отряда КГБ СССР В. М. Рогова, начальника отдела КГБ по ГБАО А. Л. Еделева, заместителя начальника УВД ГБАО А. Мамадназарова и прокурора ГБАО С. Д. Джумаева. Как следует из протокола заседания и приложений к нему, регулярными стали вооруженные столкновения пограничников с группами (10–15 человек) афганских и таджикских контрабандистов, а также систематическое давление представителей наркомафии на пограничников и чиновников из числа местного населения. Силовики информировали депутатов о деятельности афганских моджахедов по созданию на территории ГБАО вооруженного антисоветского подполья с исламской политической программой. Успеху этой работы способствовали ослабление пограничного контроля, мягкость наказаний за нарушение границы, отток кадров и отсутствие развитой системы досмотра грузов (например, в аэропорту г. Хорога)12.
Летом 1991 года в припянджских провинциях Афганистана развернулись боевые действия между войсками М. Наджибуллы и душманами. Неожиданным побочным следствием этих столкновений стала бомбардировка 4 июня самолетом афганских ВВС кишлака Намадгути Поён в таджикском Вахане, в результате которой погибло четыре и было ранено девять человек13. Несмотря на официальные извинения со стороны М. Наджибуллы и правительства соседней стра-ны14, инцидент поднял вопрос об организации противовоздушной обороны. По представлению председателя СНД ГБАО А. Искандарова ВС РТ просил у Министерства обороны СССР «решить вопрос размещения противовоздушных сил на территории республики». Запрос датирован 10 сентября15. К этому моменту Ишкашимский, Ваханский и Шугнанский уезды афганского Бадахшана уже месяц находились под контролем Ахмад Шаха Мас’уда [1: 384], [2: 72]. Несмотря на заверения новых соседей в добрых намерениях, было ясно, что обострение обстановки – лишь вопрос времени.
Негативное воздействие Афганистана определенно ощущалось и в экономике ГБАО. Еще до вывода войск автономия регулярно направляла значительные объемы гуманитарной помощи в приграничные районы афганского Бадахшана16. После февраля 1989 года поставки продолжились, несмотря на ухудшение хозяйственного положения на Памире. Так, только распоряжение исполкома от 19 октября 1989 года предусматривало безвозмездную передачу со складов ГБАО 40 тонн химических удобрений, двух тракторов, 50 тонн цемента и множества других дефицитных для региона предметов и материалов соседним районам афганского Бадахшана17. «Спущенный» Советом Министров СССР план помощи ГБАО «заречью» на 1990 год предусматривал передачу товаров на полтора миллиона рублей18. Судя по документам облисполкома, были и внеплановые поставки. При этом за Пяндж отправлялись преимущественно товары, в которых испытывали острую нужду сами памирцы (мука, стройматериалы, оборудование для больниц, сельхозтехника). Кроме того, на территорию ГБАО регулярно переходили группы афганских беженцев, содержание которых также ложилось на областной бюджет [2: 72]19.
В границах Советского Бадахшана была и собственная дотационная периферия – Мургаб. Если обобщенно назвать Памир самым отсталым и труднодоступным регионом Таджикистана, то Мургабский район автономии – «ГБАО внутри ГБАО». Занимая 60,7 % площади советского Памира, он представлял собой наименее населенную часть региона (12700 человек) [7]. Горные хребты Восточного Памира окружены равнинами, лежащими на высоте 3200–4000 м над уровнем моря. Земледелие здесь невозможно, поэтому с незапамятных времен Мургаб населен кочевниками. С XVI века эстафету приняли памирские киргизы. Важной особенностью Мургаба всегда была прочная транспортная связь с Ошской областью соседней Киргизии (то есть Ферганской долиной). Природные условия предопределили перманентно катастрофическое социально-экономическое положение Мургаба. Так, в 1989 году выделение средств на борьбу с последствиями чрезвычайных ситуаций занимало не менее года, а дефицитным препаратом в медицинских учреждениях был даже анальгин20. Кроме того, по мере внедрения механизмов самоуправления все острее ощущался языковой барьер, мешавший полноценному участию представителей Мургаба в работе новых институтов. Большая часть дискуссий в СНД велась на таджикском, обучение которому в преимущественно тюркоязычном районе, судя по всему, не велось. Эта проблема неоднократно поднималась на заседаниях Совета народных депутатов21.
С начала 1990 года на ситуации в Мургабе стал всерьез сказываться распад Союза. Опережающими темпами ухудшалось экономическое положение. В три раза (в сравнении с 1989 годом) сократилось количество построенных индивидуальных жилых домов. Обеспечение населения продуктами пришлось производить за счет поставок из сравнительно более благополучных Калаи-Хумбского и Ванчского районов области22. Кроме того, в условиях суверенизации союзных республик остро встал вопрос о пастбищах, арендованных ГБАО на безвозмездной основе в Алайском районе Киргизии. Срок договора о пользовании этими землями, на которых содержалось 14789 крупного, 38670 голов мелкого рогатого скота, а также 500 лошадей, истекал 1 января 1991 года23.
Катализатором остроты «Мургабской проблемы» стали Ошские события июня 1990 года. Во время столкновений в Ферганской долине группа молодежи из памирского кишлака Каракол (90 человек) попыталась выехать на север для поддержки киргизов. Они были задержаны пограничниками24. В районном центре (к. Мур-габ) при содействии работника районного отдела культуры М. Мурзакулова произошли нападения на командированных в ГБАО узбеков. Быстрое пресечение беспорядков произошло благодаря вмешательству КГБ25. Ошский конфликт поставил ребром и вопрос безопасности перевозок по главной транспортной артерии ГБАО – Памирскому тракту, который, судя по выступлению народного депутата Б. Таштанбекова на сентябрьской сессии Облсовета, был некоторое время заблокирован26. Таким образом, к 1991 году круг проблем, связанных с Мургабом, систематически осложнял ситуацию в ГБАО.
Казалось бы, местные условия практически исключали противостояние Бадахшана с республиканским Центром. Однако на протяжении всего рассматриваемого периода шла борьба за повышение статуса автономии и ее культурноязыковое «возрождение». Восьмая глава Конституции ТССР 1978 года предусматривала принятие Верховным Советом по представлению областного Совета народных депутатов закона о ГБАО27, но разработка этого правового акта затянулась. Тем временем с 1988 года за перевалом Хабура-бот уже вовсю шло «национальное возрождение», в которое втянулась и часть гуманитарной интеллигенции бадахшанского происхождения, поддержанная влиятельными российскими учеными. В газетных публикациях литераторы и ученые критиковали и отождествление памирских народов с таджиками, и экономическую политику властей Таджикистана и ГБАО, не способствовавшую развитию добывающей промышленности в регионе. Звучали также голоса в пользу возрождения письменной культуры через разработку алфавитов для бесписьменных языков Бадахшана [9], [10], [12], [32]28.
В 1990 году культурный активизм памирцев приобрел религиозное измерение. В Душанбе по инициативе выходца с Памира Х. Холикназарова было создано общество «Носири Хусрав». Свою задачу участники данной группы видели в просвещении исмаилитов ТССР. Они выступали за создание молельных домов в местах компактного проживания низаритов, поддержание и возрождение религиозных традиций, воспитание подрастающего поколения в духе «веры предков», издание и распространение соответствующей литературы [30: 136].
Давление общественного мнения, экономический спад и видимость перспективы расширения прав региона в условиях комплексной либерализации отношений между республиканскими центрами и периферией подвигли властные структуры области обратиться к проблеме статуса памирских языков. Вероятно, это был пробный шар, призванный проверить реакцию официального Душанбе, а также местной и столичной общественности. В январе 1989 года Областной комитет КПТ организовал в Хороге круглый стол на тему «Язык и развитие культуры». Партийные функционеры, сотрудники системы образования и работники культуры обсудили возможность включения памирских языков в школьную программу. Из двадцати одного участника встречи лишь трое выразили отрицательную позицию по рассматриваемому вопросу [30: 102–103]. После принятия 22 июля 1989 года республиканского закона «О языке» лингвистические устремления памирцев были узаконены. В третьей статье правового акта утверждалось: «Таджикская ССР создает условия для свободного развития и использования горно-бадахшанских (памирских) языков и сохранения ягнобского языка. Горно-Бадахшан-ская автономная область самостоятельно решает вопросы функционирования местных языков»29. Стремясь внести определенность в этот болезненный вопрос, Совет Министров Таджикской ССР 17 июля (то есть до утверждения закона) принял постановление «О мерах по выполнению Закона Таджикистана о языке», в котором облисполкому ГБАО вменялись разработка мер по обеспечению функционирования и сохранения памирских языков, а также подготовка предложений для реализации на республиканском уровне30. Во исполнение этих актов 23 декабря 1989 года Исполнительный комитет СНД ГБАО создал специальную комиссию, в состав которой вошли главы районных администраций, ученые и представители от каждого из языковых сообществ. В рамках комиссии были выделены три рабочие груп- пы. Первая занималась составлением алфавита, вторая – внедрением памирских языков в СМИ, на предприятиях и в сфере культуры, а третья разрабатывала меры по усовершенствованию школьной системы преподавания таджикcкого на местных языках [30: 103–107]. Фактически в 1989 году были созданы условия для решения языковой проблемы.
Гораздо сложнее дело обстояло с принятием закона «О ГБАО». Судя по протоколам сессий СНД, первые дискуссии вокруг проекта развернулись 4 сентября 1990 года. В выступлениях народных депутатов и представителей общественности заметно недовольство «беззубостью» предложенного им документа31. Так, неприятие вызвали отсутствие в тексте упоминания и определения статуса памирских языков, пункта о невозможности изменения границ ГБАО без согласия автономии. Кроме того, звучали предложения, направленные на усиление представительства региона в Душанбе путем увеличения количества нардепов от ГБАО в ВС ТССР до двенадцати и введении должности постоянного представителя области при Совмине (как вариант, председатель Облисполкома мог одновременно стать заместителем председателя центрального правительства). Самым радикальными было выступление сотрудника Исполкома Ш. Кокулова, предложившего законодательно закрепить беспартийность работников суда, прокуратуры, Облисполкома и профсоюзов, а также двойное подчинение Облисполкома республиканским министерствам и областному СНД. Однако преобладали взвешенные предложения, направленные на уточнение и конкретизацию проекта. По итогам обсуждения документ был принят в первом чтении32.
В начале апреля 1991 года Президиум СНД ГБАО подготовил и опубликовал в газете «Советский Бадахшан» проект конституционного закона «О ГБАО»33. Законопроект из семи глав (95 частей) был призван включить регион в позднесоветскую политическую систему на условиях, достаточно стандартных по понятиям того времени. Так, официально были зафиксированы особенности региона, послужившие основой получения автономии: «ГБАО является видом советской автономии, образованной на основе общей территории, географических условий, бытования таджикского (персидского), язгулям-ского, рушанского, бартангского, шугнанского, ваханского, ринского языков, экономического и духовного своеобразия, соседства с иностранными государствами». Со ссылкой на конституции СССР и ТССР, а также историческую близость, Горный Бадахшан признавался частью Таджикистана. Таджикский язык сохранил свой исключительный официальный статус, но в проекте допускалось использование памирских языков в суде, что означало их введение в правовое поле.
Прямого утверждения о наличии в автономии отличных от таджиков общностей в законопроекте не было, как и упоминания религиозного своеобразия Памира. Очевидно, что упоминание об исмаилизме и признание памирцев нацией поставили бы вопрос о праве на самоопределение таджиков Дарваза и Ванча, а также мургабских киргизов.
Значимым и созвучным времени было положение о контроле местной власти над природными богатствами ГБАО. Судя по материалам работы Областного совета, этот пункт, скорее, мог иметь (помимо популистского) частное и прикладное значение, обеспечивая развитие местного природоохранного законодательства и регулирования сферы туризма34.
Законопроект «О ГБАО» реформировал систему представительства региона на уровне СССР. Пять народных депутатов от Бадахшана должны были быть делегированы на Съезд народных депутатов СССР. Два представителя от области становились представителями автономии в Совете национальностей Верховного Совета. На наш взгляд, наиболее значимым было закрепление за ГБАО права на свободный выход из состава Таджикской ССР и СССР при условии проведения регионального референдума. День образования ГБАО (2 января) предлагалось сделать выходным днем. Как следует из протокола апрельской сессии областного Совета народных депутатов, консолидированного представления о судьбе законопроекта в местном политикуме не было. Некоторые депутаты пытались внести частные изменения в законопроект. Первый секретарь Областного комитета КПТ С. Бекназаров заявил о преждевременности принятия документа, поскольку в будущем последуют конституционные изменения на уровне всего СССР и Таджикистана, которому закон должен будет соответствовать. Напротив, представитель Рушана У. М. Аксаколов настаивал на скорейшей передаче документа в Верховный Совет ТССР. Мнение последнего, вероятно, разделяло большинство участников сессии, и законопроект был утвержден35. Параллельно с обсуждением перспектив изменения статуса области местные власти пытались организовать работы по ликвидации последствий январского землетрясения. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Таджикской ССР № 42 от 15 апреля 1991 года Исполком СНД распорядился направить на эти цели дополнительно 25,3 млн рублей капитальных вложений36. Характерно, что большая часть расходов возлагалась на все еще действующий Центр. Отделу торгово-промышленного комплекса и услуг населению исполкома ГБАО и Облпотребсоюзу ГБАО было поручено в короткий срок обеспечить получение нарядов и заключить договоры на поставку выделенных Минторгом СССР дополнительно в 1991 году.
При этом оговаривалось, что товары народного потребления и строительные материалы будут доступны «для продажи населению», а торговотехнологическое оборудование для оснащения объектов просвещения, торговли и общественного питания будет распределяться по согласованию с исполкомом ГБАО37. Всего же, по данным Верховного Совета ТССР, за первую половину 1991 года на ликвидацию последствий стихии Центром было выделено 46 млн рублей. Однако за 6 месяцев удалось освоить только 12 млн38. Кроме того, за счет резерва Правительства СССР для обеспечения нужд населения, пострадавшего от землетрясения, Кабинет Министров ТССР распорядился выделить 1,5 тыс. тонн мяса, 1 тыс. тонн животного масла и 1 тыс. тонн сахара в распоряжение Исполкома ГБАО39. В доступных документах подробно не охарактеризованы потери инфраструктуры автономии, кроме разрушения Хорогского театра40.
Архивные документы и данные периодической печати позволяют заключить, что к середине 1991 года социально-экономическая ситуация приобрела целый ряд новых кризисных черт: уменьшение посевных площадей, кризис задолженности, снижение на треть объемов строитель-ства41. Еще одним предвестником социальных потрясений стал рост безработицы42.
Несмотря на сложности, вряд ли уместно говорить о сепаратистских или антисоветских настроениях основной массы населения ГБАО. Всесоюзный референдум о судьбе СССР (март 1991 года) наглядно продемонстрировал отношение жителей ГБАО к судьбе страны: из 78 383 человек, участвовавших в голосовании, 77 246 выступили за сохранение Советского Союза43. Тем не менее нельзя утверждать, что стремление к переменам совсем не затронуло население Ба- дахшана. Прежде всего, как это часто случалось на постсоветском пространстве, произошло «возрождение» религиозной составляющей идентичности памирцев. Наиболее ярким проявлением этого процесса стали первые контакты с самим Ага-ханом IV, а также визит его представителей – М. Кашевджи, А. Раджпута и С. Джалола – в ГБАО (27 июня – 6 июля 1991 года). Консолидирующим фактором для низаритов стал сбор средств на возведение памятника проповеднику исмаилизма Носир-и-Хосрову [27].
Подводя итог, можно констатировать, что «перестройка» и распад Советского Союза затронули буквально все сферы жизни Горного Бадахшана. Социально-экономическая база, на которой зиждились стандарты «качества жизни» эпохи СССР, сужалась столь стремительно, что даже потенциально положительные аспекты либерализации и «нового мышления» (внедрение самоуправления, делегирование экономических полномочий местной власти, гласность, религиозное «возрождение», открытие внешнему миру) на практике только разгоняли кризис социальных ожиданий. Надежды на финансирование из Москвы, создание совместных предприятий, мифические несметные богатства недр региона, скорое и значительное расширение политических прав и национально-религиозной автономии обернулись конфликтом с республиканским центром, кризисом имеющихся предприятий, обострением противоречий внутри ГБАО, распылением ресурсов на статусные «прожекты», разгулом организованной преступности и ростом народного недовольства. Среди немногих положительных процессов рассматриваемого периода было налаживание связей с имамом низаритов Ага-ханом IV, экономическая поддержка которого в будущем спасет население ГБАО от голодной смерти.
* Исследование подготовлено при поддержке гранта Президента РФ для поддержки молодых ученых (кандидатов наук) № МК-5515.2018.6 «Россия и этнополитические процессы в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана (1991–2005)».
BETWEEN THE DREAMS OF PERESTROIKA AND REAL LIFE: SOVIET OF PEOPLE’S DEPUTIES OF KUHISTONI BADAKHSHON IN 1989–1991*
* This research was supported by the grant of the President of the Russian Federation for young PhDs No МК-5515.2018.6 “Russia and Ethno-Political Processes in The Kūhistoni Badakhshon Autonomous Region of Tajikistan (1991–2005)”.
Список литературы Между миражами перестройки и реальностью: совет народных депутатов Горного Бадахшана в 1989-1991 годах
- Записка о работе Советов народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, Рушанского, Шугнанского районов по улучшению сессионной деятельности и повышению активности депутатов // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 48. Д. 55. Л. 23.
- Руихати депутатхои Совети депутатхои халкии ВАБК даъвати бисту якум // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 49. Д. 1. Л. 45-46; Руи-хати даъватшавандагон ба сессияи дуйуми Совети депутатхои халкии ВАБК // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 49. Д. 2. Л. 115-118; Руихати даъватшавандагон ба сессияи гайринавбатии Шурои депутатхои халкии ВМКБ // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 49. Д. 5. Л. 25-27 и др.
- Саидов А., Сафаров А., Азимов Х. Записка о работе Совета народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, Рушанского, Шугнанского районов по улучшению сессионной деятельности и повышению активности депутатов // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 48. Д. 55. Л. 23.
- Совет народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, Исполнительный комитет: Распоряжение № 92-р от 25 июля 1989 г. // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 50. Д. 2. Л. 224.
- Совет народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, Исполнительный комитет: Распоряжение № 50-р от 10 мая 1989 г. // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 50. Д. 1. Л. 55.
- Основание десятой сессии Совета народных депутатов ГБАО двадцатого созыва от 15 сентября 1989 г. // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 43. Д. 30. Л. 77.
- Совет народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, Исполнительный комитет: Распоряжение № 82-р от 5 июля 1989 г. // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 50. Д. 1. Л. 1.
- Совет народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, Исполнительный комитет: Распоряжение № 68-р от 5 июля 1990 г. // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 50. Д. 3. Л. 2-4.
- Постановление Совета Министров СССР от 26 июля 1990 года о некоторых мерах по социально-экономическому развитию Горно-Бадахшанской Автономной Области Таджикской ССР в 1991-1995 года // Бадахшони Совети. 11 августа 1990. С. 4.
- Протокол № ИХ-31 (I-I) совещания у председателя Совета Министров Таджикской ССР т. Хаёева И. Х. // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 48. Д. 54. Л. 65.
- Декларация о государственном суверенитете Таджикской Советской Социалистической Республики (проект); Постановление Президиума Верховного Совета Таджикской ССР № 94 от 13 августа 1990 г. о проекте Декларации о государственном суверенитете Таджикской Советской Социалистической Республики // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 48. Д. 54. Л. 7-8.
- Протокол № 5 сессияи панчум (даъвати бистуякуми) Шурои депутатхои халки вилояти мухтори Кухистони Бадахшон // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 49. Д. 4. Л. 24-28, 106-124.
- Рахмонкулов Р., Шоинбодов Н. Фочиа дар Намадгут (тафсили вокеа) // Бадахшони Совети. 6.07.1991. С. 1.
- Сообщение представителя МИД СССР // Бадахшони Совети. 7.07.1991. С. 4.
- Постановление Верховного Совета Республики Таджкистан № 405 от 10 сентября 1991 г. О запросе народного депутата Республики Таджикистан Искандарова А. от Ванчского избирательного округа № 224 "Об обеспечении безопасности населения Горно-Бадахшанской автономной области и укреплении ее границ" // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 48. Д. 55. Л. 21.
- Совет народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, Исполнительный комитет: Распоряжение № 9-р от 31 января 1989 г. // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 50. Д. 1. Л. 142.
- Совет народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, Исполнительный комитет: Распоряжение № 146-р от 19 октября 1989 г. // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 50. Д. 2. Л. 42-43.
- Совет народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, Исполнительный комитет: Распоряжение № 63-р от 10 мая 1990 г. // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 50. Д. 3. Л. 86; Совет народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, Исполнительный комитет: Распоряжение № 60-р от 7 мая 1990 г. // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 50. Д. 3. Л. 110; Совет народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, Исполнительный комитет: Распоряжение № 59-р от
- мая 1990 г. // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 50. Д. 3. Л. 113
- Совет народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, Исполнительный комитет: Распоряжение № 128-р от 19 сентября 1989 г. // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 50. Д. 2. Л. 33.
- Выступление председателя исполкома Мургабского районного Совета народных депутатов т. Полушкина А. А. на IX сессии областного Совета народных депутатов // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 43. Д. 29. Л. 6-10.
- Протокол № 5 сессияи панчум (даъвати бистуякуми) Шурои депутатхои халки вилояти мухтори Кухистони Бадахшон // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 49. Д. 4. Л. 20-21
- Протокол №3 сессияи панчум (даъвати бистуякуми) Шурои депутатхои халки вилояти мухтори Кухистони Бадахшон // ГА ГБАО. Ф. Оп. 49. Д. 3. Л. 6-7.
- Искандаров А. И. Записка о некоторых вопросах социально-экономического развития Мургабского района Горно-Ба-дахшанской автономной области // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 48 Д. 54. Л. 46.
- Протокол № 5 сессияи панчум (даъвати бистуякуми) Шурои депутатхои халки вилояти мухтори Кухистони Бадахшон // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 49. Д. 4. Л. 28.
- Дружба всего сильней // Бадахшони Совети. 19.06.1991. С. 4.
- Протокол № 3 сессияи панчум (даъвати бистуякуми) Шурои депутатхои халки вилояти мухтори Кухистони Бадахшон // ГА ГБАО. Ф. Оп. 49. Д. 3. Л. 7.
- Конституция (Основной Закон) Таджикской Советской Социалистической Республики. Душанбе: Ирфон, 1987. C. 12.
- Зуробеков Н. Шох ё гадо // Адабиет ва санъат. 10.08.1989. С. 3.
- Закон Республики Таджикистан от 22 июля 1989 года № 150 «О языке» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// online.zakon.kz/Document/?doc_id=30496905#pos=0;38 (дата обращения 10.04.2018).
- Постановление Совета Министров Таджикской ССР «О мероприятиях по выполнению Закона Таджикской ССР о языке» // Вечерний Душанбе. 17.07.1989. № 136 (5276).
- Протокол № 3 сессияи панчум (даъвати бистуякуми) Шурои депутатхои халки вилояти мухтори Кухистони Бадахшон // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 49. Д. 3. Л. 14-25.
- Карори Совети депутатхои халкии вилояти автономии Бадахшони Кухии РСС Точикистон № 38 аз 2 сентябри соли 1990 // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 49. Д. 3. Л. 44.
- Конуни Чумхурии шуравии социалистии Точикистон "Дар бораи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон" (лоиха) // Бадахшони Совети. 6.04.1991. С. 1-3; Конуни Чумхурии шуравии социалистии Точикистон "Дар бораи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон" (лоиха) // Бадахшони Совети. 9.04.1991. С. 1-3.
- Карори Совети депутатхои халкии вилояти автономии Бадахшони Кухии РСС Точикистон № 44 аз 4 сентябри соли 1990 // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 49. Д. 3. Л. 50; Положение об охоте и ведении охотничьего хозяйства на территории ГБАО // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 49. Д. 3. Л. 51-63; Протокол № 5 сессияи панчум (даъвати бистуякуми) Шурои депутатхои халки вилояти мухтори Кухистони Бадахшон // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 49. Д. 4. Л. 2
- Протокол № 5 сессияи панчум (даъвати бистуякуми) Шурои депутатхои халки вилояти мухтори Кухистони Бадахшон // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 49. Д. 4. Л. 22-24.
- Совет народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, Исполнительный комитет: Распоряжение № 24-р от 23 апреля 1991 г. // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 50. Д. 5. Л. 89.
- Саидов А., Сафаров А., Азимов Х. Записка о работе Совета народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, Рушанского, Шугнанского районов по улучшению сессионной деятельности и повышению активности депутатов // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 48. Д. 55. Л. 23.
- Совет народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, Исполнительный комитет: Распоряжение № 24-р от 23 апреля 1991 г. // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 50. Д. 5. Л. 90.
- Четвертый театральный фестиваль в Таджикистане // Театр. 1991. Вып. 10. С. 48.
- Гулхандаев Ш. О чем говорят итоги полугодия // Бадахшони совети. 26.07. 1991. С. 4.
- Саидов А., Сафаров А., Азимов Х. Записка о работе Совета народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, Рушанского, Шугнанского районов по улучшению сессионной деятельности и повышению активности депутатов // ГА ГБАО. Ф. 1. Оп. 48. Д. 55. Л. 23.
- Барои Иттиходи навшуда овоз дованд // Бадахшони Совети. 20.03.1991. С. 1.
- Акимбеков С. М. История Афганистана. Астана; Алматы: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 2015. 848 с.
- Бабаханов У Таджики идут (статьи, репортажи, интервью). Душанбе: Эр-Граф, 2012. 496 с.
- Бозоров К. Д. Переселенческая политика правительства Республики Таджикистан в послевоенный период и ее социально-экономическое и культурно-бытовое значение, 1946-1965 гг.: Автореф. дис.. канд. ист. наук. Душанбе, 2002. 22 с.
- Болдырев В. А. Итоги переписи населения СССР. М.: Финансы и статистика, 1990. 49 с.
- Бубнова М. А. Археологическая карта Горно-Бадахшанской автономной области. Западный Памир (памятники каменного века - XX в.). Душанбе: УЦА, 2008. 383 с.
- Бушков В., Моногарова Л. Этнические процессы в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана // Центральная Азия и Кавказ. 2000. № 5. С. 215-233.
- Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность населения союзных республик СССР и их территориальных единиц по полу // Демоскоп Weekly [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng89_reg1. php (дата обращения 15.04.2018).
- Гвоздецкий Н. А., Михайлов Н. И. Физическая география СССР. Азиатская часть. Изд. 3-е, испр. и доп. М.: Мысль, 1978. 512 с.
- Грюнберг А. Л., Стеблин-Каменский И. М. Несколько замечаний по поводу отклика А. С. Давыдова на статью С. В. Чешко // Советская этнография. 1989. Вып. 5. С. 35-38.
- Д а в ы д о в А. С. Не обоснованно. зато публицистично // Советская этнография. 1989. Вып. 5. С. 15-23.
- Даудов А. Х., Андреев А. А., Шорохов В. А., Янченко Д. Г. Национальное строительство в Таджикистане в 1988-2000-е гг. Поиск «основы конструкта» // Былые годы: Российский исторический журнал. 2015. T. 35 (1). С. 204-210.
- Д о д и х у д о е в Р. Х. Доколе будем слыть манкуртами // Коммунист Таджикистана. 1989. Вып. 5. С. 28-29.
- Додихудоев Р. Х. Языковая политика и языковое строительство в Таджикистане // Русский язык в СССР. 1991. № 9. С. 5-7.
- Кошлаков Г. В., Тураева М. О., Майтдинова Г. М. Экономические интересы России в Таджикистане: риски и возможности. Душанбе: РТСУ, 2009. 322 с.
- Малашенко А. В. Таджикистан: долгое эхо гражданской войны // Московский Центр Карнеги. 2012. Т. 14. Вып. 3. С. 1-12 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://carnegieendowment.org/files/MalashenkoBrifing_14-3-12_Russ_web. pdf (дата обращения 10.07.2018).
- Международные отношения в Центральной Азии: События и документы. М.: Аспект Пресс, 2011. 549 с.
- Моногарова Л. Ф. Памирцы - народности или субэтносы таджиков? (ответ А. С. Давыдову) // Советская этнография. 1989. № 5. С. 28-34.
- Моногарова Л. Ф. Этнический состав и этнические процессы в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР // Страны и народы Востока. 1975. Вып. 16. С. 174-191.
- Ниёзов С. Шииты-исмаилиты Центральной Азии. // Центральная Азия и Кавказ. 2003. Т. 30. Вып. 6 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ca-c.org/journal/2003/journal_rus/cac-06/05.niyru.shtml (дата обращения 28.05.2018).
- Основы иранского языкознания: среднеиранские и новоиранские языки. М.: Восточная литература, 2008. 446 с.
- П а р ш и н П. Б. Место и роль Горно-Бадахшанской Автономной области в Государственной системе Таджикистана // Международная аналитика. 2016. Т. 16. Вып. 2. С. 83-96.
- П а х а л и н а Т. Н. Памирские языки. М.: Наука, 1969. 163 с.
- Прибалтика и Средняя Азия в составе Российской империи и СССР: Мифы современных учебников постсоветских стран и реальность социально-экономических подсчетов. М.: [Б. и.], 2009. 198 с.
- Раджабов С., Бободжанов Н. Советский Бадахшан в братской семье народов СССР. Душанбе: Ирфон, 1975.36 с.
- Ситнянский Г. Ю. Россия и Центральная Азия: вместе или врозь? Межэтнические отношения в Средней Азии и Казахстане и Россия. М.: ИЭА РАН, 2011. 290 с.
- Терещенко В. В. Самая эффективная окружная пограничная система (1960-1990 гг.) // Вестник ТГУ Гуманитарные науки. История и политология. 2013. Т. 121. Вып. 5. С. 226-234.
- Х о д ж и б е к о в Э. Х. История активизации религии и религиозных деятелей ГБАО Республики Таджикистан в годы Перестройки (1985-1991 гг.) // Успехи современной науки. 2017. Т. 4. Вып. 2. С. 179-180.
- Х о н а л и е в Н. ГБАО - проблемы социально-экономического развития // Центральная Азия и Кавказ. 2004. Т. 31. Вып. 1. C. 186-195.
- Ху д о ё р о в М. М. Проблема Памирской автономии в Таджикистане на рубеже 1980-1990-х гг. // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. Т. 237. Вып. 22. С. 78-81.
- Ху д о е р о в М. М. Социально-политические и этнокультурные трансформации на постсоветском Памире: Дис.. канд. ист. наук. М., 2012. 225 с.
- Четвертый театральный фестиваль в Таджикистане // Театр. 1991. Вып. 10. С. 48.
- Чешко С. В. Время стирать белые пятна // Советская этнография. 1988. Вып. 6. С. 5-6.
- Чешко С. В. Распад Советского Союза. Этнополитический анализ. 2-е изд. М.: ИЭА РАН, 2000. 399 с.
- Ш ар а ф и е в а О. Х. Роль региональных кланов во внутренней политике Таджикистана // Вестник Томского государственного университета. 2012. Т. 359. С. 98-100.
- Шахрай С. М. Мифы и факты о распаде Союза ССР // Распад СССР: Документы и факты (1986-1992 гг.): В 2 т. Т. II: Архивные документы и материалы. М.: Кучково поле, 2016. С. 39-50.
- Шорохов В. А. Этнолокальные группы Таджикистана в постсоветский период: особенности взаимного восприятия и самоидентификации // Петербургские исследования: Сб. науч. статей. Вып. 3. СПб., 2011. С. 326-338.
- Brasher R. Ethnic Brother or Artificial Namesake? The Construction of Tajik Identity in Afghanistan and Tajikistan // Berkeley Journal of Sociology. 2011. Vol. 55. P. 97-120.
- Rashid A. The Resurgence of Central Asia: Islam or Nationalism. London, Karachi, Oxford University Press, 1994. 288 p.