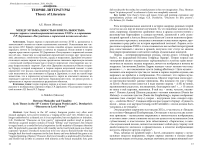Между музыкальностью и визуальностью: теория лирики в западноевропейской поэтике XVIII в. и в трактате Г. Р. Державина "Рассуждение о лирической поэзии или об оде"
Автор: Махов Александр Евгеньевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 4 (39), 2016 года.
Бесплатный доступ
Теория лирики в европейской поэтике XVIII в. развивается в значительной степени на основе музыкальных аналогий. Осмысленная как «пение души» (И.Г. Гердер), лирическая поэзия, подобно музыке, немиметична: она выражает, ничего не изображая и ничему не подражая. Иную линию в теории лирики представляет трактат Г.Р. Державина «Рассуждение о лирической поэзии или об оде». Заимствуя из современной европейской поэтики круг представлений, связанных с понятиями чувства, сердца и выражения, Державин отказывается видеть модель лирики в музыке, предпочитая связывать лирическую поэзию с визуальной изобразительностью и трактуя лирическое стихотворение как череду выразительных «картин». При этом Державин оказывается близок позднему Гердеру, который возвращает в теорию лирики визуальный элемент и даже определяет этот род как «вдохновенную живопись фантазии». При этом лирическая визуальность, как понимают ее Гердер и Державин, в столь же малой мере миметична, что и лирическая музыкальность: лирик не описывает видимое, но порождает картины в своей фантазии. Горацианский топос «ut pictura poesis» в применении к лирике оказывается радикально обновлен.
Теория лирики, лирика и музыка, лирика и живопись, выражение и изображение, картина и образ, г.р. державин, "рассуждение о лирической поэзии", ш. баттё, и.г. гердер
Короткий адрес: https://sciup.org/14914572
IDR: 14914572
Текст научной статьи Между музыкальностью и визуальностью: теория лирики в западноевропейской поэтике XVIII в. и в трактате Г. Р. Державина "Рассуждение о лирической поэзии или об оде"
Роль интермедиальных аналогий в истории жанрово-родовых теорий остается до сих пор не вполне изученной. То, что подобные аналогии (каково, например, знаменитое сравнение эпоса и драмы соответственно с разомкнутым барельефом и самодостаточной, замкнутой в себе скульптурной группой у Августа Вильгельма Шлегеля1) могли выполнять функцию весомого аргумента, показывает эволюция осмысления лирики, прослеженная в ряде работ по истории европейской поэтики2. Лирика, которая лишь в середине XVIII в. стала осознаваться как особый литературный род, сопоставимый с эпосом и драмой, получила этот статус во многом благодаря применению к ней целого набора музыкальных аналогий.
Лирика - интериоризированная музыка, «песня души» («Gesang der Seele»), по выражению Иоганна Готфрида Гердера3. Теория лирики как «внутренней песни» подхватывает зародившуюся в эстетике идею неми-метичности музыки: музыка выражает, ничего не изображая и ничему не подражая. Англичанин Джеймс Харрис находит «силу» музыки «не в подражании <...> но в вызывании чувств (raising affections)»4. Цель музыки -вызывать или выражать чувства; но такова и лирика: подобно музыке, она выражает, не прибегая к изображению. Это означает, что лирика музыкальна, но никоим образом не живописна. Многие теоретики эпохи жестко противопоставляют данные принципы. Мы находим это уже у Шарля Батте: «Разве поэзия [имеется в виду именно лирика - А.МД не пение, вдохновленное радостью, восхищением, благодарностью? <...> Я совсем не вижу в ней картины, живописи. В ней все - огонь, чувство, опьянение»5. Иоганн Адольф Шлегель разделяет «поэзию живописи (Poesie der Malerey)» и «поэзию чувства (Poesie der Empfindung)»; первая отображает внешнее (она «говорит глазу»), вторая - внутреннее (она «говорит сердцу» - «redet ins Herz»)6. Сходным образом рассуждает и Гердер: «Сущность песни - пение, а не картина (Gesang, nicht Gemalde)»; «песня должна быть услышана, а не увидена»7.
Это разделение закреплено эстетиками XIX в., в частности, в «Лекциях по эстетике» Фридриха Шлейермахера. Он находит в искусстве два основных принципа - музыкальное выражение и миметическое изображение; в соответствии с ними словесное искусство делится на музыкальное (или субъективное) и пластическое (или объективное): «Лирическое, в качестве музыкальной поэзии, полностью заполняет собой одну сторону этой двойственности; эпическое и драматическое, в качестве изображающих искусств, образуют другую сторону»8.
Итак, начиная по крайней мере с Батте, связавшего лирику с музыкальным модусом выражения, теория лирики именно в музыке видит идеальную модель этого рода, отрицая значение для лирики внешней изо- бразительности: по определению штюрмера Вильгельма Хейнзе, стихотворение «должно иметь дело только с невидимым»9. Не случайно именно в этот период в поэтике возникает своеобразный «антипикториализм» (выражение Кэвина Берри10): живописи, осознанной как неповоротливое, статичное искусство, предпочитается музыка с ее гибкостью, изменчивостью и прочими качествами, свидетельствующими о ее способности передавать все оттенки душевной жизни.
Такова общая тенденция эпохи. Однако она имеет и исключения, к числу которых следует отнести русский трактат о лирике - «Рассуждение о лирической поэзии или об оде» Г.Р. Державина, над которым он работал в последнее десятилетие жизни11. Первое, что обращает на себя внимание в этом трактате, - консолидирующая стратегия автора, который стремится не противопоставлять и разделять (как это делали европейские теоретики лирики, подчеркивающие, что лирика - выражение, но никак не изображение; музыкальное, но никак не живописное, «сердце и чувство», но не мысль и т.п.), но, наоборот, соединять в своей теоретической конструкции идеи, восходящие к разным эпохам. Так, к античной риторике (а именно, к идее декорума) восходит мысль о «приличии» как соответствии мысли и «тона»; к Ренессансу - топос поэта-полигистора, который должен владеть разнообразными знаниями; к поэтике барокко - идея поэтического остроумия, вызывающего изумление, и т.п.
Слова «чувство», «чувствовать», постоянно применяемые в трактате к лирике, восходят уже к теориям XVIII в., трактующим лирику как «выражение чувства». «Чувство» упомянуто в самых важных местах трактата -например, в определении «единства» лирического произведения: «Единство страсти, или одно главное чувство, в лирической песни, как в эпопее и драме единство действия, господствовать долженствует...»12.
Предполагая для лирики особое «единство чувства» (отличное от аристотелевского единства действия), Державин воспроизводит идею, высказанную Шарлем Батте: «В оде должно быть единство чувства, как в эпосе и драме - единство действия»13. Ему вторят, с некоторыми вариациями, немецкие теоретики. Необходимое «требование» к оде, по Иоганну Эшен-бургу, - «единство предмета оды и вызываемого им основного чувства (Hauptempfin dung) в душе поэта»14. Любопытно, что эту мысль поддержат романтики, хотя и по-своему ее варьируя: по Новалису, «в настоящем стихотворении нет иного единства, кроме единства души (die Einheit des Gemiits)»15; Фридрих Гёльдерлин определит лирическое стихотворение как «продленную метафору чувства (fortgehende Metapher eines Gefuhls)»16.
Некоторые поэтологические топосы, традиционно соотносимые с поэзией в целом, Державин применяет именно к лирике. Это в первую очередь касается горацианского топоса «ut pictura poesis», который, варьируясь, проходит через всю историю европейской поэтики, постоянно уподоблявшей поэзию - но не лирику как таковую! - живописи: так, ренессансный теоретик Лодовико Дольче определит «стихи и слова» как «кисть и краски поэта, которыми он наносит тени и цвета на полотно своего изобретения, чтобы создать столь удивительный портрет природы...»17;
Филип Сидни (в начале «Защиты поэзии») называет поэзию «говорящей картиной (a speaking picture)»; немецкий теоретик и поэт Иоганн Менке в латинской диссертации «О приятном» (1734) отмечает, что «поэт, как и художник, имитирует природу, и вполне уместно назвать, вместе с Флакком, поэзию картиной»18, и т.д.
Едва ли не самую знаменитую формулировку той же мысли дает римская «Риторика к Гереннию»: «Стихотворение должно быть говорящей картиной, картина - молчащим стихотворением (poema loquens pictura, pictura taciturn poema debet esse)» (IV, 39). Отголосок этой формулы находим у Державина: поэзия «по подражательной своей способности ничто иное есть, как говорящая живопись»19 [далее трактат Державина цитируется по указанному изданию].
Топос «ut pictura poesis» Державин последовательно - и вопреки большинству европейских теоретиков XVIII в. - применяет именно к лирике, которая, по его мнению, должна содержать «блестящие, живые картины» (549).
Если о связи поэзии и музыки у Державина говорится лишь в одном разделе, где обсуждается «сладкогласие или сладкозвучие» (по сути, всего лишь звукоподражание в поэзии), то мысль о живописности лирики, о ее способности изображать картины пронизывает весь трактат. Само слово «картина» проходит через него лейтмотивом, сопровождаясь постоянными комментариями автора, стремящегося пояснить, что такое, собственно, «картины» в лирике. Лирический поэт «старается выставить разные картины, одну после другой противоположные, как то: ужасные и приятные»; «картины <...> в лирической поэзии (не говоря о эпической) должны быть кратки, огненною кистью, или одною чертою величественно, ужасно, или приятно начертаны»; свойство дифирамба (как лирического жанра) состоит в том, чтобы в нем «картины, которые, кажется, никакого сношения между собою не имеют, толпами теснились, но не следовали друг за другом»; «лирическое высокое» состоит «в беспрестанном представлении множества картин и чувств блестящих» (541, 550, 580, 537).
Подчеркиваются, как видим, краткость «картин», быстрота их чередования и даже их «теснота» - качество, определяющее подлинную краткость, которая «не в том одном состоит, чтоб сочинение было недлинно, но в тесном совмещении мыслей...» (545). Пристрастие Державина к словам «теснота», «тесниться», из которых он делает позитивные поэтологические понятия (и мысли, и образы должны «тесниться»), невольно заставляют вспомнить тыняновскую «тесноту стихового ряда»: только у Тынянова «теснятся» слова, а у Державина - «картины».
Как это требование живописности, идущее вразрез с основной теоретической тенденцией эпохи, сосуществует с топикой чувства, вокруг которой в европейской поэтике того времени, напротив, царило практически полное теоретическое согласие?
Обратим внимание на одну странность трактата. Наряду с многократно повторяемым словом «чувство» в нем изредка появляются и слова «выражение», «выразительность»; но столь важная для европейской теории лирики идея «выражения чувств» возникает лишь в относительно второстепенных контекстах (в сравнении песен разных народов и в определении пеана, 521, 578), и ни разу - в ключевых определениях лирики!
Лирика у Державина - не «выражение», но «изображение», а именно -«изображение» «всех чувств сердца человеческого» (517). Слова «изображать», «изображение» повторяются многократно и в самых ключевых определениях. Появляются и слова «представлять», «представление»: «Песни представляют чувства или страсти сердца, приводящие душу в движение»20; лирическая высокость «состоит в живом представлении веществ» (537).
Мы видели, что важной точкой схождения Державина с современной теории лирики было то, что мы назвали топикой чувства: в лирике господствует чувство, она - «разговор сердца» (571); в этом определении Державин оказывается близок Иоганну Георгу Зульцеру, описавшему лирику как «чувствительный разговор с самим собой (empfindungsvollen Selbstgespraches)»21. Но дальше пути Державина и европейской теории (в ее основной, описанной нами тенденции) расходятся. Установку на музыкальную модель (выражение без изображения) Державин не принимает. Если многие европейские теоретики, в духе вышецитированного Хейнзе, полагали, что лирика должна иметь дело «только с невидимым», то Державин стремится удержать в ней живописный компонент, зримость. Другое дело, что у Державина этот живописный компонент ставится в связь с «чувством» поэта - позволяет это незримое чувство изобразить. Ведь задача лирики - представить невидимое через видимое; «неизвестный или невидимый предмет представить чрез видимый въявь...» (564).
Итак, лирика у Державина лишь в малой и ограниченной мере музыкальна, но зато всецело живописна: «картины» - ее главное выразительное средство; правда, картины интериоризированные, освоенные и присвоенные чувством. Место «картины» в системе лирической выразительности определено в следующей примечательной формулировке: «В превосходных лириках всякое слово есть мысль, всякая мысль картина, всякая картина чувство, всякое чувство выражение» (523). Слово и мысль должны стать «картиной» - лишь тогда, сделавшись зримыми, они могут стать чувством и выражением. Державин не говорит: «выражать чувство», но переворачивает это уже ставшую привычной европейскую формулу: «чувство» для него и есть «выражение». В самом деле: «чувство», по Державину, уже запечатлено в «картине», а потому выразительно.
Были ли у Державина единомышленники среди европейских теоретиков лирики? Упоминания о живописном начале в лирике действительно появляются у некоторых теоретиков, но спорадически - например, у И. Эшенбурга в рассуждении о «философской оде», которая, по его мнению, должна превращать «практические истины философии» в «страстные переживания», мысли поэта - в образы (Bilder), анализы (Zergliederungen) - в картины (Gemalde)22.
Подлинным же союзником Державина мне представляется, как ни странно, Гердер - тот самый Гердер, который так последовательно разра-16
батывал теорию лирики именно на основе музыкальной модели, определяя лирическую поэзию как «музыку души».
Однако в некоторых поздних работах он стремится построить теорию лирики на основе идеи антропологической равнозначности двух базовых чувств - зрения и слуха: «Глаз и ухо, самый тонкие чувства нашей природы, органы всего приятного, привлекательного и прекрасного, являются, как мне кажется, в их счастливом соединении прародителями лирической поэзии»23.
Называя метафоры, которыми в поэтиках передают сущность лирики, Гердер упоминает «поток» и «полет». Последний (Plug) представлен в образах, напоминающих державинское описание «полета» священной оды («Когда сверкает в небесах, тогда же низвергается и в преисподнюю; извивается, чтобы скорее цели своей достигнуть; скрывается, чтобы ярче об-листать...», 519): «Муза воспаряет и опускается, кажется, что заблудилась, но никогда не теряет путь, наконец, либо возвращается к месту, откуда она воспарила, либо исчезает в облаках - прекрасный образ для жанра (Gattung) оды, которая представляет собой вдохновенную живопись фантазии (enthusiastische Gemalde der Phantasie)». Тут же, двумя строками ниже, лирическая поэзия традиционно определена как «совершенное выражение чувства»; однако, как видим, это выражение воплощено живописными (Gemalde!), а не музыкальными средствами24.
Итак, лирика - живопись, но живопись фантазии; образ, но внутренний. Новаторскую работу по интериоризации понятия «образ» Гердер проделал в статье «Об образе, поэзии и басне», где высказана мысль, что акт зрения уже сам по себе - творческий процесс: «мы не просто видим, но создаем для себя образы»; образ на сетчатке глаза - «произведение твоего внутреннего чувства, художественная картина, создаваемая способностью твоей души к наблюдению». «Дух сочиняет (der Geist dichtet), наблюдающее внутреннее чувство (bemerkende innere Sinn) творит образы. Оно творит новые образы даже и тогда, когда предметы уже тысячекратно были восприняты и воспеты; ибо оно видит их собственными глазами, и чем вернее внутреннее чувство останется самому себе, тем своеобразнее оно соединит и опишет эти предметы»25.
Внешний предмет, образ, чувство в человеческом восприятии оказываются неразрывно переплетены - что приводит Гердера к формулировке, напоминающей державинское «уравнение» мысли, картины, чувства и выражения: «Предмет и образ, образ и мысль, мысль и выражение <...> имеют между собой столь мало общего, что лишь посредством нашего восприятия <...> они начинают граничить друг с другом»26.
В этой же статье, когда заходит речь о лирике, возникает живописная метафора: лирическая поэзия, особенно ода - «прекраснейшая живопись человеческой речи (schonste Gemahlde der menschlichen Sprache)»27. С этим Державин не мог бы не согласиться.
Лирическая визуальность, как понимают ее Гердер и Державин, в столь же малой мере миметична, что и лирическая музыкальность: лирик не описывает видимое, но порождает «картины» в своей фантазии - по- добно тому как романтический художник Каспар Давид Фридрих, изображенный за работой на полотне Георга Фридриха Керстинга (1811), пишет пейзаж не на плейере (в котором он не нуждается), а в собственной студии, сидя спиной к окну Старый топос «ut pictura poesis» в применении к лирики радикально обновлен, ибо обозначает уже не идею подобия природе, но способность лирики передавать порождаемые душой представления. Гердер находит «душу песни» в «танце представлений»28; у Державина лирик «видит вдруг тысячи мест» именно «в пространном кругу своего светлого воображения» (539) - почти в полном соответствии с предписанием, сформулированным французским романтиком Жозефом Жубером: «Закрой глаза - и ты увидишь»29.
Список литературы Между музыкальностью и визуальностью: теория лирики в западноевропейской поэтике XVIII в. и в трактате Г. Р. Державина "Рассуждение о лирической поэзии или об оде"
- Schlegel A.W. Über dramatische Kunst und Literatur. Vorlesungen. 2 Ausg. Bd. 1. Heidelberg, 1817. S. 126-127
- cherpe Kl. Gattungspoetik im 18. Jahrhundert. Historische Entwicklung von Gottsched bis Herder. Stuttgart, 1968
- Cullhed A. The Language of Passion: The Order of Poetics and the Construction of a Lyric Genre 1746-1806. Frankfurt am Main; New York, 2002
- Махов А.Е. Формирование теории лирики как литературного рода (к вопросу о роли музыкальных аналогий в истории поэтики)//Литературоведческий журнал. 2008. № 23. С. 84-110
- Huss B., Mehltretter F., Regn G. Lyriktheorie(n) der italienischen Renaissance. Berlin; Boston, 2012
- Herder J.G. Oden (von Klopstock)//Allgemeine deutsche Bibliothek. Des neunzehnten Bandes erstes Stuck. Berlin; Stettin, 1773. S. 119
- Harris J. Three Treatises. The first concerning Art. The second concerning Music, Painting and Poetry. The Third concerning Happiness. London, 1744. P. 99
- Batteux Ch. Cours de belles lettres ou principes de la littérature. Nouvelle édition. Vol. 3. Francofort, 1755. P. 2
- Schlegel J.A. Von dem höchsten und allgemeinsten Grundsatze der Poesie//Hern Abt Batteux... Einschränkung der schönen Künste auf einen einzigen Grundsatz aus dem Französischen übersetzt und mit einem Anhange einiger eignen Abhandlungen versehen. 2 Aufl. Leipzig, 1759. S. 364-365
- Herder J.G. Volkslieder, Zweiter Teil. Vorrede (1778-1779)//Lyriktheorie. Texte vom Barock bis zur Gegenwart/hrsg. von L. Völker. Stuttgart, 1990. S. 96-97
- Schleiermacher F. Vorlesungen über die Aesthetik (1819)//Schleiermacher F. Sämtliche Werke. 3 Abth., Bd. 7. Berlin, 1842. S. 648
- Markwardt B. Geschichte der deutschen Poetik. Bd. 2. Aufklärung, Rokoko, Sturm und Drang. Berlin, 1956. S. 638
- Barry K. Language, Music and the Sign. A Study in Aesthetics, Poetics and Poetic Practice from Collins to Coleridge. Cambridge, 1987. P. 43
- Западов А.В. Работа Г.Р. Державина над «Рассуждением о лирической поэзии»//XVIII век. Т. 15. Л., 1986. С. 232-233
- Державин Г.Р. Сочинения: в 9 т./с примеч. и предисл. Я.К. Грота. Т. 7. СПб., 1872. С. 540
- Batteux Ch. Cours de belles lettres ou principes de la littérature. Nouvelle édition. Francofort, 1755. T 3. P. 20
- Eschenburg J.J. Die lyrische Poesie (1783)//Lyriktheorie. Texte vom Barock bis zur Gegenwart/Hrsg. von L. Völker. Stuttgart, 1990. S. 107
- Novalis. Schriften/Hrsg. von P. Kluckhohn und R. Samuel: In 5 Bd. Stuttgart, 1960-1988. Bd 3. S. 683
- Hölderlin F. Über den Unterschied der Dichtarten (1798-1800)//Lyriktheorie. Texte vom Barock bis zur Gegenwart/Hrsg. von L. Völker. Stuttgart, 1990. S. 148
- Dolce L. Osservationi nella volgar lingua (1550). Цит. по: Weinberg B. A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance: in 2 vols. Vol. 1. Chicago, 1961. P. 127
- Lempicki S. von. Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Göttingen, 1920. S. 240
- Державин Г.Р. Сочинения: в 9 т./с примеч. и предисл. Я.К. Грота. Т. 7. СПб., 1872. С. 564
- Державин Г.Р. Продолжение о лирической поэзии. Ч. 3/публ. А.В. Западова//XVIII век. Т. 15. СПб., 1986. С. 248
- Sulzer J.G. Lyrisch (1771-1774)//Lyriktheorie. Texte vom Barock bis zur Gegenwart/hrsg. von L. Völker. Stuttgart, 1990. S. 84
- Eschenburg J.J. Die lyrische Poesie (1783)//Lyriktheorie. Texte vom Barock bis zur Gegenwart/hrsg. von L. Völker. Stuttgart, 1990. S. 110
- Herder J.G. Die Lyra. Von der Natur und Wirkung der lyrischen Dichtkunst (1795-96)//Lyriktheorie. Texte vom Barock bis zur Gegenwart/hrsg. von L. Völker. Stuttgart, 1990. S. 120
- Herder J.G. Die Lyra. Von der Natur und Wirkung der lyrischen Dichtkunst (1795-96)//Lyriktheorie. Texte vom Barock bis zur Gegenwart/hrsg. von L. Völker. Stuttgart, 1990. S. 127
- Herder J.G. Über Bild, Dichtung und Fabel (1787)//Texte zur Geschichte der Poetik in Deutschland/hrsg. von H.G. Rötzer. Darmstadt, 1982. S. 319-320
- Herder J.G. Über Bild, Dichtung und Fabel//Texte zur Geschichte der Poetik in Deutschland/hrsg. von H.G. Rötzer. Darmstadt, 1982. S. 319
- Herder J.G. Über Bild, Dichtung und Fabel//Texte zur Geschichte der Poetik in Deutschland/hrsg. von H.G. Rötzer. Darmstadt, 1982. S. 323
- Herder J.G. Briefwechsel mit Nicolai/hrsg. von O. Hoffmann. Berlin, 1887. S. 78
- Joubert J. Carnets/textes recuellis par A. Beaunier. 2 éd. Vol. I. Paris, 1994. P. 404