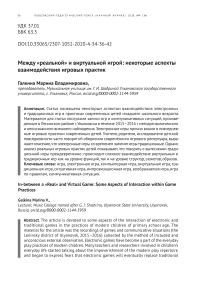Между «реальной» и виртуальной игрой: некоторые аспекты взаимодействия игровых практик
Автор: Галкина Марина Владимировна
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Традиционная культура и проблемы воспитания
Статья в выпуске: 4 (34), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена некоторым аспектам взаимодействия электронных и традиционных игр в практиках современных детей младшего школьного возраста. Материалом для статьи послужили записи игр и коммуникативных ситуаций, произведенные в Ленинском районе г. Ульяновска в течение 2015-2016 г. методом включенного и неосознанного внешнего наблюдения. Электронные игры прочно вошли в повседневные игровые практики современных детей. Учителя, родители, исследователи детской повседневности часто говорят об обеднении современного игрового репертуара, выражают опасение, что электронные игры со временем заменят игры традиционные. Однако анализ реальных игровых практик детей показывает, что говорить о вытеснении традиционной игры преждевременно: происходит сложное взаимодействие виртуальных и традиционных игр как на уровне функций, так и на уровне структур, сюжетов, образов.
Игра, электронная игра, компьютерная игра, виртуальная игра, традиционная игра, ситуативная игра, импровизационная игра, воображаемая игра, игра по правилам, коммуникативная ситуация
Короткий адрес: https://sciup.org/142226359
IDR: 142226359 | УДК: 37.01 | DOI: 10.33065/2307-1052-2020-4-34-36-42
Текст научной статьи Между «реальной» и виртуальной игрой: некоторые аспекты взаимодействия игровых практик
Введение. В последние десятилетия произошли существенные изменения в повседневных игровых практиках детей. Это связано и с сокращением досугового времени, и с тем, что неотъемлемой частью жизни современных детей и подростков стали компьютерные игры. Нередко в работах исследователей, занимающихся изучением детской культуры, можно встретить негативную оценку данного процесса: как правило, говорят об обеднении современного игрового репертуара и о негативном влиянии на ребенка, в повседневности которого электронная игра вытеснила собой игру традиционную [см., например: Абраменкова 2008; Шереметьева 2016].
Задача статьи – рассмотреть специфику взаимодействия электронных и традиционных игр в практиках современных детей младшего школьного возраста.
Материалом работы являются записи игр и коммуникативных ситуаций, осуществленные в Ленинском районе г. Ульяновска в течение 2015–2016 г. методом включенного и неосознанного внешнего наблюдения.
Гипотезой работы является следующий тезис: традиционные игровые формы по-прежнему остаются важнейшей частью детской субкультуры, исполняя все присущие им функции, в том числе социализирующую. Электронные игры, являясь новым элементом игровой культуры, не отменяют автоматически ее прежние составляющие, а вступают в сложное взаимодействие. Н. И. Толстой в работе «Язык и народная культура» писал о том, что в области духовной культуры, в отличие от материальной, новые элементы системы «не сметают и не сменяют элементов старой, а проникают и уживаются в ней». [Толстой 1995: 46]. Прежняя система дополняется и усложняется за счет новых элементов, трансформируется. Разнородные элементы вступают во взаимодействия и соотношения. [Толстой 1995: 46]. Те же процессы можно наблюдать в отношении электронных и традиционных игр в реальных игровых практиках детей младшего школьного возраста.
Компьютерная игра, будучи продуктом индустрии развлечения, в контексте детской повседневности не сводима исключительно к развлекательной функции. Она, безусловно, вписывается в прагматику детской субкультуры в целом и, наряду с традиционными играми, участвует в создании коммуникативного фона детских сообществ.
Мнение специалистов , в том числе детских психологов, в отношении компьютерных игр не однозначно. Часто электронным играм ставится в упрек то, что они разобщают детей, что дети перестают общаться, погружаясь в виртуальное пространство. Однако другие исследования показывают, что виртуальная среда становится важнейшим фактором социализации детей и подростков [Жданова, Черноярова 2015; Майорова-Щеглова 2015], а мобильный Интернет – естественным полем коммуникации [Майорова-Щеглова 2015].
Описание исследования. Анализируя традиционные и инновационные формы общения детей и подростков, С. Н. Майорова-Щеглова приводит данные, согласно которым непосредственное общение с друзьями занимает первое место среди предпочтений в проведении досуга у детей [Майорова-Щеглова 2015].
Наши записи показали, что в электронную игру дети младшего школьного возраста тоже предпочитают играть в кругу сверстников. Если некоторое время назад игрок был «привязан» к компьютеру или другому стационарному игровому устройству, а количество со-игроков ограничено (речь не идет об игре по сети), то переход электронных игр на мобильные платформы позволил преодолеть их жесткую пространственную закрепленность. Играть в виртуальную игру стало возможным и на дворовой площадке, и в школе, и в спортклубе, и т.д. Типичной, часто наблюдаемой, является ситуация, когда дети, поиграв какое-то время в подвижные игры, садятся и с интересом наблюдают за игрой на мобильном устройстве одного или нескольких участников компании. Затем смартфон или планшет передается другому желающему сыграть. Внешне все выглядит так, будто игровое действие целиком разворачивается в виртуальном пространстве. Активная роль принадлежит играющему, остальные находятся в пассивной позиции наблюдателей. Ситуация производит впечатление отсутствия коммуникации.
Интересно, что некоторые взрослые так и воспринимают описанную картину. На просьбу автора дать разрешение записать, как дети играют в компьютерные игры и что они при этом говорят, взрослые, как правило, отвечали, что дети играют молча.
Елена Ю. (мама, 35 лет): «Мне кажется, они ничего не говорят».
Людмила Александровна К. (учитель, 56 лет): «Да, они вроде молча играют».
Тем не менее, записи подобных игровых ситуаций убедительно доказывают, что наблюдатели отнюдь не ограничиваются пассивной ролью.
Например, Миша (8 лет), Марк (8 лет) играют в «Dragon Hunter» на смартфоне Марка. Основной игрок – Миша. Миша впервые играет в «Dragon Hunter». Марк, как более опытный игрок, дает советы Мише, предупреждает о грозящей ему виртуальной угрозе.
Миша: «Что за кривые стрелы?!»
Марк: «О! Водяной! Водяного гаси! Он издалека может атаковать. Видел? Он даже до нас еще не доплыл… Он сейчас тебя…»
Миша: «Не уверен. Мы его почти прибили».
Обращает на себя внимание то, что Миша, кажется, вполне осознает, что он не единственный игрок, принимает Марка за со-игрока: «Мы его почти прибили » .
Или другая ситуация, записанная нами в группе продленного дня в одной из школ г. Ульяновска. Мальчики играют в популярную в их компании игру «Shadow Fight». Участники: Матвей (8 лет), Иван (10 лет), Кирилл (8 лет). Игра ведется на планшетном компьютере Матвея. Основной игрок – Иван.
Кирилл: Ты уверен, что тебе нужен этот шлем?
Иван: А-а! Вон! Мясничок! (на экране появляется герой)
Матвей: Ты на каком? (уровне)
Иван: Я на последнем сейчас.
Кирилл: А это что?
Иван: С рогами…
Матвей: Давай уже, взрывай!
Иван: О! Изгнанник. Быстро как-то.
Кирилл: У него топорик.
Матвей: Да-а, топорик. Вань, а ты дрался уже с Жнецом?
Иван: Нет, а что это?
Матвей: Ну, это Отшельника телохранитель.
Как видно из реплик, ребята подсказывают стратегию игры, обмениваются знаниями о некоторых нюансах, и, конечно, хвалятся успехами, сравнивая их с результатами друзей.
Электронные игры в компании сопровождаются активным общением, обменом мнениями, живыми эмоциями и, безусловно, не лишены азарта и состязательности.
Ситуация, когда на одном мобильном устройстве играет несколько ребят, неизбежно ставит перед ними вопрос очередности, установления правил. Например, Амина (8 лет) внимательно следит за тем, как Элина (9 лет) играет в игру «Мой говорящий Том». (Девочки играют на смартфоне, принадлежащем третьей девочке).
Элина: Мыши вылезают отовсюду. Сбоку. Везде.
Амина: У каждого по одному шансу . (Амина оговаривает правила, с которыми, по-ви-димому, соглашается вторая девочка)
Элина: Люблю красных мышей, оранжевых, точнее.
Амина:….
Элина: И люблю робота-мышку. Сейчас покажу. Вот сейчас будет, смотри.
Многие электронные игры не подразумевают второго игрока, движущей силой игры выступает программа. Однако особое удовольствие детям доставляет именно игра в компании сверстников. На вопрос собирателя «Как тебе больше нравится играть в компьютерную игру: одному или с друзьями?» большинство опрошенных ребят отвечали, что предпочли бы игру в компании. Анализ коммуникативных ситуаций подобного рода позволяет предположить, что в данном случае электронная игра выступает не как индивидуальная, а как совместная деятельность.
Для детей младшего школьного возраста совместная деятельность чрезвычайно важна. Она является и целью, и средством. Через групповые отношения, через совместную деятельность усваиваются социальные нормы, создается общий эмоциональный фон группы, устанавливается основа для коммуникации. В контексте совместной деятельности электронная игра приобретает функции, свойственные игре традиционной.
Кроме того, элемент состязательности, agon, значительно повышается, если играть в электронную игру в окружении сверстников. Р. Кайуа, описывая класс игр типа пасьянс, пазл, кроссворд, указывает, что, хотя подобные игры не требуют второго игрока, их легко превратить в конкурс, соревнование. Р. Кайуа отмечает, что игровые автоматы устанавливают в людных местах – то есть там, где «вокруг играющего могут собираться какие-то зрители» [Кайуа 2007: 68], – не случайно.
Действительно, в процессе такой коллективной игры дети постоянно сообщают о собственных достижениях, сравнивая их с успехами друзей: «А ты на каком уровне?», «А у тебя сколько очков?». Особенно в этом смысле выделяется ситуация, когда дети в одну и ту же игру играют на разных устройствах параллельно, а не совместно. Соревновательная, состязательная составляющая в этом случае кратно увеличивается.
Электронная игра в контексте реальных игровых практик детей становится формой социального взаимодействия, основой развернутой коммуникации по поводу игры и во время нее. С точки зрения коммуникативной ситуации, дети, наблюдающие за тем, как играют другие, становятся полноценными со-игроками. Они так же, как игроки в традиционной игре, сотрудничают, состязаются друг с другом, испытывают удовольствие от совместной игры. Таким образом, не трансформируясь по сути и форме виртуальные игры становятся частью детской субкультуры, и в ее контексте приобретают некоторые признаки и функции, свойственные игре традиционной.
Другой аспект взаимодействия разных игровых практик детей связан с тем, что виртуальная игра нередко становится источником «реальной» игры без использования гаджета. Конечно, главным условием такого взаимодействия является трансформация виртуальной игры [см.: Козловская 2020: 130–131], ее уподобление традиционной игре.
Дети «вписывают» новые игровые элементы в привычную систему. Иногда эти игры остаются на уровне импровизационных, ситуативных игр [о подобных типах воображаемых игр на основе медиаисточника см.: Козловская 2020].
В одном из скверов Ульяновска, где после уроков часто отдыхают школьники, была записана такая игровая ситуация. Мальчик (10–11 лет), очевидно, увлекающийся игрой «Mortal Kombat», предложил друзьям сыграть в нее. Тут же были распределены роли в соответствии с персонажами компьютерной игры. Игровые роли распределял инициатор игры, по-видимому, единственный из участников, знакомый с оригиналом. Некоторое время ребята догоняли друг друга, имитируя сражение в стиле восточных единоборств.
Нами фиксировались и другие подобные игровые ситуации, в которых основой «реальной» игры становились такие популярные электронные игры, как «Five Nights at Freddy’s», «Minecraft».
Виртуальная игра может стать источником и устойчивой игры по правилам. Так в одном из дворов центрального района Ульяновска нами записана игра, которую сами игроки называют «World of Tanks». Мальчики 8-12 лет сооружают из песка башни «танков», вставляют в них палочки или веточки – стволы танковых орудий (см.: Рис. 1). Ребята по очереди бросают в «танки» большие камни, стараясь добиться максимальных разрушений. Игровое действие сопровождается рядом правил и ограничений, типичных для традиционной игры.

Рис. 1. Игра «World of Tanks». Фото автора
Территория, на которой происходит бой, строго ограничена. Мальчики делятся на команды либо по желанию, либо считаются. Так же, жеребьевкой «Су-е-фа», определяют очередность «стрелков» внутри команды. Для соблюдения паритетных условий участниками игры используется один камень, который передается после «выстрела» следующему игроку. Строго регламентируется позиция бросающего камень: только от своего танка. Несмотря на то, что есть свидетельства бытования подобных игр в «докомпьютерную» эпоху (например, у нас есть запись-воспоминание о похожей игре: в нее играли мальчики примерно в 1963 г.), участники данной локальной традиции указывают на электронное происхождение своего варианта игры, закрепляя его названием. Вероятно, медиаисточником действительно могла стать игра «World of Tanks». Игра закрепилась в традиции этого игрового сообщества и некоторое время передавалась следующим поколениям. По словам информантов, уже около 5 лет «World of Tanks» входит в репертуар детской компании этого двора. Ребята объясняли, что придумали так играть мальчики, «которые сейчас уже взрослые» (Демид, 11 лет).
На игровых площадках в Ленинском районе Ульяновска нами записаны несколько вариантов игры под названием «Акула». По признанию детей, играют они в «Акулу» «уже давно – года три». (София, 11 лет; записано в 2016г.) Примерно в то же время у детей младшего школьного возраста, особенно мальчиков, была очень популярна электронная игра «Hungry Shark», где перед персонажем – акулой – стояла задача съесть как можно больше рыбы, крабов, людей и т.д.
Играют в «Акулу» мальчики и девочки 7–12 лет. Во всех известных нам вариантах в игре задействованы уличные детские игровые комплексы. Ведущий – акула – должен поймать кого-нибудь из остальных игроков. И на ведущего, и на того, кого он ловит, накладывается ряд ограничений в передвижении по игровому комплексу. Например, в одном из вариантов акула-ведущий может перемещаться «только по железу», то есть исключительно по металлическим частям комплекса: турникам, горкам и т.д. В другом варианте «акула может ходить по земле, а рыбки – нет» (Лена, 8 лет). Остальные игроки – рыбки – могут перемещаться только по деревянным частям детского комплекса: ступеням лестницы, окантовке горки, крыше и т.д. В одном из вариантов этой игры спортивный комплекс наи-меновался кораблем, и, согласно правилам, через 5 минут после начала игры считался затонувшим. После чего «акула» может двигаться и по всему «кораблю».
Сюжетное сходство позволяет предположить, что дворовая игра «Акула» может восходить к компьютерному источнику - «Hungry Shark». Вместе с тем элементы компьютерной игры заметно трансформируются, подчиняясь законам традиционной игры «в догонялки». В игровом пространстве выделяются места, регламентирующие поведение игроков: « только по железу », « только по деревянным частям » детской площадки. Подобная организация игрового пространства характерна для традиционной игры, в которой заранее оговариваются правила поведения водящего и игроков в зависимости от места, которое они могут занимать: например, уставший игрок может временно передохнуть, используя соответствующую вербальную формулу («Утки – утки, я на три минутки!» или «Стоп игра!»).
В структуру некоторых электронных игр заложены модели, соответствующие определенным типам традиционных детских игр.
Например, по структуре «Hungry Shark» – это типичная игра-преследование: роль персонажа – акулы – сходна с ролью ведущего в догонялках: акула преследует добычу и поглощает ее (ср.: «Чай-чай, выручай!», «Зомби» и т.д.).
«World of Tanks» заложена модель традиционной игры на личную или командную состязательность, где все участники находятся в равных условиях – только от их навыков и мастерства зависит финальный успех (ср.: «Земельки», спортивные игры, военно-спортивные игры).
Интересно, что хоррор-игра «Five Nights at Freddy’s» стала не только основой для «воображаемых», импровизационных игр [Козловская 2020], но и источником современных детских вызываний. В разных районах г. Ульяновска нами зафиксированы несколько вариантов вызываний персонажей игры «Five Nights at Freddy’s»: Фокси, Чики и самого Фредди (см. Рис. 2). Кроме того, на каналах You Tube можно найти записи вызываний

аниматроников, а в социальной сети «В контакте» существуют сообщества, посвященные вызываниям персонажей игры «Five Nights at Freddy’s».
Если в импровизационной игре «Мишка Фредди», как показывает А. Козловская, «намного детальнее <_> воспроизводилась игровая структура виртуальной игры, в то время как образная система репрезентировалась схематично и дискретно» [Козловская 2020: 131] то вызывания, очевидно, заимствуют именно «уровень репрезентации или образной системы». [Козловская 2020: 131]
Желание детей разыгрывать виртуальную игру в реальности, на наш взгляд, объясняется тем, что, при всей динамичности некоторых игровых элементов, особенно при постоянно меняющемся информационном фоне, именно тради ционной игре присущи черты, в полной Рис. 2. Вызывание Фокси. Фото автора. мере удовлетворяющие потребностям детей младшего школьного возраста в общении, в состязательности, в совместной деятельности, в коллективном переживании эмоций.
Вместо выводов. Совмещение разных игровых практик – это сложный процесс, требующий наблюдения и анализа. С одной стороны, электронные игры в значительной степени изменили детскую повседневность и игровые практики современных детей, с другой стороны, будучи новым элементом детской субкультуры, компьютерные игры не вытеснили игры традиционные, а в реальном бытовании вступили с ними в сложное многоаспектное взаимодействие, во многом объясняемое универсальными психическими потребностями детства.
Список литературы Между «реальной» и виртуальной игрой: некоторые аспекты взаимодействия игровых практик
- Абраменкова В. В. Социальная психология детства: Учебное пособие. М.: ПЕР СЭ, 2008.
- Жданова Т. А., Черноярова Н. С. Влияние виртуальной среды на социализацию современной молодежи // Ученые заметки ТОГУ. Электронное научное издание 2015. Т. 6. № 2. С. 122-127. URL: http://pnu.edu.ru/ media/ejournal/articles-2015/TGU_6_84.pdf (дата обращения 6.11.2020).
- Кайуа Р. Игры и люди. Статья и эссе по социологии культуры. М., 2007.
- Козловская А. "Давай ты снял маску Фредди": коммуникативные стратегии и перераспределение агентности в детской воображаемой игре с цифровым медиаисточником // Антропологический форум. 2020. № 45. С. 116-156. 10.31250/1815-8870-2020-16-45-116-156 URL: http://anthropologie. kunstkamera.ru/files/pdf/045/kozlovskaya.pdf (дата обращения 6.11.2020). DOI: 10.31250/1815-8870-2020-16-45-116-156URL
- Майорова-Щеглова С. Н. Общение детей: социологический анализ традиционных и инновационных форм // Мир психологии. 2015. № 1 (81). С. 94-101.
- Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.
- Шалаева С. Л. Мир Взрослых и Мир Детства: трансформация отношений как фундаментальный вызов эпохи // Психология человека в современном мире Т. 5 Личность и группа в условиях социальных изменений (Материалы Всероссийской юбилейной научной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения С. Л. Рубинштейна, 15-16 октября 2009 г.) / Отв. ред. А. Л. Журавлев. М., 2009. С. 200-206.
- Шереметьева М. А. Изменение игровых предпочтений детей в контексте социокультурных проблем современности // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 4 (46). Часть 7. С. 80-85. DOI: 10.18454/IRJ.2016.46.095