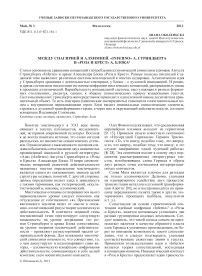Между спагирией и алхимией. «Infernо» А. Стриндберга и «Роза и крест» А. Блока
Автор: Oboleska Diana
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (132), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья основана на сравнении концепций употребления алхимической символики в романе Августа Стриндберга «Inferno» и драме Александра Блока «Роза и Крест». Разные подходы писателей к заданной теме выявляют различные системы воплощенной в текстах кодировки. Алхимическая идея у Стриндберга сравнима с деятельностью спагирика, у Блока - с духовной инициацией. И роман, и драма составлены писателями на основе шифрации мистических концепций, раскрываемых также в проекции алхимической. Вариабельность инициальной системы, выступающая в разных форменных отклонениях, сводится, однако, к общему символическому приему кодирования текстов. Система символов Стриндберга непосредственно приводит к односложной замене десигната на сравнительный объект. То есть спагирия (химические эксперименты) становится сопоставительным полем с внутренними переживаниями героя. Блок вводит инициальные символические элементы, стремясь к духовной трансформации героев, а через них и окружающей действительности, согласно концепции Владимира Соловьева.
Алхимия, палингенез, стриндберг, блок
Короткий адрес: https://sciup.org/14750412
IDR: 14750412 | УДК: 811.113.6+821.161.1
Текст научной статьи Между спагирией и алхимией. «Infernо» А. Стриндберга и «Роза и крест» А. Блока
Понятие мистического в ХХI веке вновь оживает в текстах публицистов, исследователей, историков современной культуры. Восходя к не всегда понятым истокам, это слово сегодня расплылось во множестве семантических оттенков. Однако именно с выяснения его значения следовало бы начать сопоставление двух знаменитых произведений шведской и русской литературы: «Ада» («Inferno») Августа Стриндберга и «Розы и Креста» Александра Блока. В веере символических измерений сюжетной действительности названных текстов определение мистического является одним из связывающих звеньев целой структуры кодовых понятий. С другой стороны, данное определение входит здесь в зависимость с такими терминами, как эзотерический, оккуль-тистический и, наконец, алхимический.
Мистическое осязание сотворившегося на его первоначальном уровне следует понимать как отчуждение от собственного «я». Преломление кантовского ноумена ведет от мысли к осязанию, и платоновский разум творит космическую действительность. В контексте заданной темы поставленный тезис прогнозирует следующую зависимость: на уровне деградации «я» роман Стриндберга и драма Блока сопоставимы, на уровне творения космической действительности – проявляют разносторонний наклон содержательной формы. Для выявления мистической символики возьмем то, что совместимо, то, о чем дискутируют и недоговаривают сами авторы, – алхимическую концепцию шифрования действительности, совмещающую в себе целый комплекс схем посвятительного контекста.
Олег Фомин подсказывает, что средневековая европейская алхимия выходит из герметизма [9; 15]. Приведем самую известную сентенцию из «Изумрудной Скрижали» Гермеса Трисме-гиста: «То, что внизу, подобно тому, что вверху, и то, что вверху, подобно тому, что внизу; и это служит завершению одной чудесной работы» [8; 28]. Эта сентенция входит в основу двух перспектив рассматриваемых литературных текстов, возобновивших слова Гермеса в образе двух разных точек соотнесения интерпретационных контекстов.
Слова Мага являются ключом для разгадки не только алхимического Делания, указывая на одновременное содействие двух процессов: трансмутации металлов и духовной трансформации Адепта1 [10], но и воспроизводятся по принципу передвижного пункта также в других эзотерических проекциях (каббала, оккультизм и т. д.).
Сопоставляя на основе герметической сентенции идейные шифровки «Inferno»2 и «Розы и Креста», кажется возможным установить две разные группировки кодовых комплексов. Следует помнить, что такой подход совсем не предполагает наличия в качестве образного пласта слов Гермеса в указанных произведениях, но берет во внимание возможность такого сопоставления, что и следует подтвердить, указывая соответствующие сюжетные линии в текстах. Принципом отождествления идеи в «Inferno» является теория сопоставлений, восходящая к концепции монизма. Инициатический контекст в «Розе и Кресте» предполагает идею трансмута-
ции в соответствии с духовной трансформацией. Таким образом, поляризация значений проходит на уровне сопоставления и на уровне тождества. В первом случае сопоставление ведет к духовным мукам, идее неповиновения и в окончательном итоге – возвращению к природе/натуре, близкой по значению к идеям Шеллинга. Во втором случае отождествление устанавливает новую форму внутренней действительности Адепта и провоцирует возврат к Абсолюту.
Попробуем воспроизвести алхимический контекст данных произведений. Автор «Inferno» – Золя оккультизма. Соотнесение Стриндберга с французским писателем, которого Дмитрий Мережковский выбросил за рамки символического творчества [7; 8–11], и соединение в одном контексте с оккультной основою, дает экзотерический, но никак не эзотерический уровень отождествления. Как пишет Ян Балбеж, оккультизм был для писателя скорее литературным направлением, таким как символизм, или, возможно, той определяющей мир идеей, которая пришла на место дарвинизма и натурализма [11; 317].
Повествователь, называющий себя Августом Стриндбергом (что еще не дает нам права считать повесть чисто биографическим эквивален-том3 [16; 241]), решает заняться химическими опытами, которые в итоге должны привести к образованию золота из металлов «низших»4. Затворившись в хилой, как называет ее Август, студенческой квартире в Латинском районе Парижа, главный герой экспериментирует с серой, считая ее основой процесса. Огонь, пылающий в камине, где сера подлежит трансформации, сравнивается с огнем, пылающим в кузнице5. Соответственно, на уровне практических действий проходит химический процесс, так как атанор (алхимическая печь) заменен камином, а «вульгарный»6 огонь не имеет своего алхимического эквивалента – Философского огня. Однако дешифрация символов ведет все же к алхимической символике. Обожженные руки героя становятся черными, кожа шелушится, как чешуя, шелушится и сходит пластами, что приводит к госпитализации. Частые мысли о смерти7 способствуют меланхолии. Из жалости к самому себе герой вновь налаживает любовную корреспонденцию с покинутой женой. Прогуливаясь по улицам Парижа, Август чувствует вонь кислой капусты, которая, как известно, может напоминать запах серы. Герой приходит к выводу, что все происходящее является результатом наказания свыше, действующего по принципу противоположности: повышая во мнении, понижает в обществе, «чтобы разжечь мою душу» [19; 19]. Все это, по словам героя, должно стать началом просвещения. Перечисленные символические проявления иной действительности должны составлять первый этап алхимического Делания, называемый nigredo. Соответствующий совме- щению и последующему гниению алхимических элементов, он отождествляется с черным цветом, который фиксируется определенными символами: черным вороном, черепом, гробом (смертью, так как это тот же процесс погребения вещества в «черной земле» или компосте). Для Адепта данный этап означает духовную дорогу в ад, инициатическую смерть, чтобы в последующей стадии albedo возродиться в новой форме. Второй этап проектирует появление из черной массы белого вещества, называемого алхимиками Магнезией, Белой Дамой, Белым Львом и т. д. Albedo является также завершением Малого Магистерия и получения лечебного препарата, употребляемого как внутреннее лекарство. Для Адепта это воскресение, возврат из ада. Последний этап rubedo и есть получение Философского Камня или Красного Льва – темно-красного порошка, способного трансмутировать металлы в золото. Для Адепта это этап, когда воскресшая духовная жизнь приобретает новое измерение существования, инициация завершается. Из этого следует, что Стриндберг соотносит происходящее с этапом nigredo. Черные руки соответствуют черной массе, шершавой и выделяющей противный запах (кислая капуста). Это та же черная меланхолия, когда дух Адепта «погружается» в смерть. Это первоначальное соитие в узах Эроса двух противоположных субстанций (любовные письма к жене). В последующих сценах появляется и черная птица – галка, она садится на гроб во время похорон, на которых присутствует Август. Однако наряду с типичной алхимической символикой появляются детали, нарушающие чистоту процесса: обугленные руки одеты в рукава белой рубашки (христианская коннотация), которую Август покупает по дороге в больницу. Нисхождение в ад (Август приготавливается к смерти) является результатом наказания свыше, которое должно принести просвещение. Однако в алхимических режимах не происходит смешивания цветов, за исключением свыше обусловленного явления, названного cauda pavonis (Павлиний Хвост), – стадии поочередного окрашивания вещества в различные цвета (в «Inferno» это появляющаяся радуга). «Погружение в смерть» элемента это также не наказание, а неотъемлемый процесс очищения, отторжения нечистой материи, символизируемый в алхимии победой Михаила или Георгия над драконом. Из этого следует, что описанная картина читается не в контексте отождествления, но в контексте сопоставления.
В последующих сценах романа найдем все тот же калейдоскоп соответствий, но не тождества алхимического процесса и трансформации Адепта. В меланхоличном Париже есть и уголок рая, названный Jardin de Plantes, своей красотой окрыляющий Августа. В Австрии ландшафт Клам становится той же картиной, которая по- явилась на стенках алхимического сосуда в отеле Orfila’ – предвещавшей дантовский ад. Там же Август останавливается в розовой комнате у одной из теток своей второй жены. Совмещение в алхимической параллели розовой комнаты и черного ада никак невозможно8 [15; 243]. Сам способ получения золота, над которым работает Август, можно определить как работу спагирика. Как писал один из последних посвященных ХХ века Фулканелли, «спагирики получают в тиши лабораторий вещества, которые впоследствии позволят заложить основы современной химии; великие Адепты дают новый импульс герметическим истинам»9 [10; 57]. Можно выделить три вида алхимии: практическая, философская и практическая философская. Только последняя является инициацией. Понятно, что Август не соединяет контекст философский с практическим. Сила Августа и самого Стриндберга совершенно в другом, в идее сопоставлений. Все та же сера, один из основных элементов алхимического процесса, в «Inferno» будет отождествляться не с золотом как таковым, а с самим героем (Август – сера), проходящим мученический путь, тот же, которому подлежит сера при трансформации, и с образом ада, что совершенно очевидно. Здесь действует не символ символистов, а аналогия – схожесть. Духовная алхимия – это осознанный эзотерический процесс инициации, который в романе не выступает.
Исходя из всего этого кажется возможным применение по отношению к «Inferno» другого термина, более соответствующего принципу шифровки текста, – «имагинативный палингенез». Упомянутый неоднократно принцип соотнесений дает такую возможность. Тем более, что понятие палингенеза также восходит к основам алхимии.
Palingenesia (греч.) – вторичное рождение. В герметических (алхимических) трактатах этим термином обозначалось явление, когда возможным было периодическое воплощение основы естества в «разных» материальных формах [14]. Возросший на философских спекуляциях10 термин впоследствии перешел в научную область экспериментов (М. Смолуховский, Л. Хамон), а также стал реальным элементом спиритуалистических опытов11. В научных исследованиях доказывалось, что суть палингенеза состоит в свойствах сольных частиц материи, которые при разных видах химической и физической обработки выявляли те же первоначальные свойства. Таким образом, частицы входили в основу новообразования корпуса12 материи. Сгоревшее растение или живое существо (чаще всего это была небольшая птица) в течение непродолжительного времени возобновлялись в колбе в первоначальном контуре13.
В определении «имагинативный палингенез» возможна замена практической основы процесса на его мыслеформу14, а контекст имагинации как таковой подчеркивает духовную перспективу происходящего. Таким образом, используя элементарную основу сущего, можем кодировать ее проявления в разносторонних формах реальной действительности. В данном случае корпус заменяем формой, поскольку наша идея должна отражать мысль в форме. Если это так, то новообразованный термин должен вписываться в идею, которую Стриндберг действительно употребил в «Inferno», – теорию соответствий Сведенбор-га15. Согласно концепции шведского мистика, все сущее бытует в образе соответствий, или, как назвал это Рене Генон, аналогий16. Итак, возвращаемся к приведенной в начале статьи цитате: «То, что внизу, подобно тому, что вверху»17 [11; 20]. Благодаря имагинативному палингенезу внешнее свойство серы, употребляемой Августом в «Inferno», можно ввести как внутренний контекст самого Августа, из чего появляется Август-сера. Подверженная химическим и физическим процессам, сера является аналогией физических переживаний Августа (черные руки). Ее коннотация образа адского огня приводит героя к мысли о смерти. Полученные результаты «опытов» с серой и Августом определяют реальные химические свойства первой и временное душевное спокойствие второго. Однако, как видно из вышесказанного, идея аналогии не тождественна результатам алхимического процесса, поскольку не выступает в данном случае порядок трансформации. Это подтверждают слова самого Стринд-берга, опубликованные в «Le Martin» в 1895 году. В данном интервью Стриндберг определяет современную алхимию как монистическую химию, подчеркивая единство всякой материи18 [11; 48]. Идея новой химии была результатом мысли автора «Исповеди безумца» об универсальной регрессии, пожирающей как науку, так и природу. С таким выводом связывалась мысль об иллюзорности реального мира.
Правило соответствий фактически конструирует текст «Inferno», появляясь и на уровне семантики сюжета, и на уровне образования вписанного порядка действий. Ситуации и происшествия в романе повторяют и дополняют судьбы библейских персонажей и Сведенборга. Поступки героя и оценку ситуации проектируют найденные Августом указатели-символы: инициалы А. С. в витрине; буквы, напоминающие о приезде Poppoffsky, – P (П) и Y, уложенные из сухих веток в Люксембургском саду; около фонтана на огрызке бумаги запечатлены цифры 207 и 28, соответствующие химическим элементам, которые послужат в процессе получения золота, и т. д. Мысль героя строит соответствия, находит сходные элементы в каждой возможной перспективе существования, тем самым возобновляет утраченный или ненайденный корпус соответствующей модели действи- тельности. Сольные частицы в теории палингенеза становятся на уровне мысли героя, его имагинации той вездесущей основой, на которой образуются соответствия. Каждая появляющаяся параллель является мыслеформой, обитает в имагинацийной перспективе и возобновляет код в новой форме путем мысленного палингенеза. «Inferno» становится последующей формой «Antibarbarusa» (1893), экспериментируя в этот раз с натурой самого Августа. Нет сомнений, что «алхимическая» вариация «Antibarbarusa» опирается на исследования Эрнеста Геккеля – немецкого биолога, доклад которого писатель слушал в Германии во время научного конгресса в 1892 году. Стриндберг приходит к выводу, что сера не является первичным элементом, так как подлежит разложению во время химических реакций. Этот вывод также находим в «Inferno». Таким образом, новая химия, согласно автору «Исповеди безумца», основана на теории связи основ всех элементов, которые могут варьировать, образуя тем самым новые качественные составы. Неисчислимость вариантов, восходящих к одной общей основе, дает перспективу бесконечности. Соответственно Август-сера стремится к самовоскресению в новых возможных комбинациях.
Соответствующую вышесказанному структуру соотношений найдем и в последующих работах Стриндберга: двух брошюрах «Jardin des plantes» и книге «Sylva Sylvarum» (1896). Рамки статьи не позволяют выявить все возможные зависимости «алхимической» кодировки в творчестве писателя. Поэтому сошлемся здесь на интересную и многогранную работу Я. Балбежа о научных текстах Стриндберга.
Под числом 17 января 1912 года Александр Блок записал в своем дневнике: «Вчера ночью читал Ад Стриндберга. Сегодня утром – письмо от m-lle Скворцовой. <…> Я смотрю (за окном мороз, солнце) на лампу в столовой… Вдруг вижу, что в лампу проникло сознание, на ней – фигурки драконов, хотя и довольно добродушных, – между резервуаром и колпаком. <…> Днем лежу, дочитываю Ад , пишу предисловие к Соколовой» [2; 124]. Следующая запись в дневнике определяет, какое впечатление произвела на Блока книга Стриндберга. 19 января 1912 года в наброске к письму Н. Н. Скворцовой19 поэт пишет: «Для того чтобы иметь представление о том, как я сейчас (и очень часто) настроен (но не о моих житейских обстоятельствах и отношениях), прочтите трилогию Стриндберга ( Исповедь глупца , Сын служанки и Ад )» [2; 125]. Из заметок Блока вырастает двойная перспектива прочтения Стриндберга. С одной стороны, видим понимание творческой ситуации в контексте «Inferno», с другой – фигурки драконов явно проектируют инициальный пласт интерпретации, поскольку сопряжены с понятием воплощения сознания.
Интересный обзор материалов Блока дает Дина Магомедова в статье «Blok and Strindberg: Notes on a Theme»: «According to Blok’s A List of My Works, he began his bibliographical notes ‘Strindber-giana’ in 1912. <…> Blok’s notes fall into three parts. The first of these turn out to be a peculiar synchronic table, beginning with the year 1849 when Strindberg was born and ending with the year in which he died, 1912. The second part contains bibliographical notes on the translation of Strindberg into Russian as well as articles on him in Russian editions. Finally, the third part is a description of the Russian 15 volume collected works of Strindberg in the ‘Sovremen-nye problemy’ (Contemporary Issues) edition»20 [17; 134]. Для нас важно то, что Блок перечитывает «Inferno» в период работы над драмой «Роза и Крест». Так как оба текста связаны с основными алхимическими символами, необходимо выделить их и в произведении Блока.
Эзотерический контекст в творчестве русского символиста неоднократно рассматривался в работах исследователей. Параллель между черной розой и алхимическим nigredo была указана мной в работе «Имагинация Голубого цветка. Драма А. Блока “Роза и Крест”» [18]. В данной статье хотелось бы обобщить основные принципы ини-циацийной кодировки драмы и сопоставить результаты с вышесказанным о Стриндберге.
Главные герои драмы Бертран и Изора проходят путь духовной инициации, понимаемой по всем правилам эзотерического посвящения. Трансформация естества воспроизводится путем осознания и, соответственно, развития косми-ческих/божественных духовных возможностей (у Блока, конечно, прежде всего имеется в виду софийный элемент). В данном случае познание истины происходит не только посредством разумного элемента и духовного притяжения к Абсолюту, оно также зависит от последнего и самого главного элемента инициации – соте-ра. «…Если лишь пожелать к сему достигнуть, то легко можно, последуя нашему совету, найти руководителя и проводника, который укажет ключ к Великому Таинству и приведет к драгоценному Философскому камню», – писал Якоб Бëме в трактате о человеческой душе [4; 20].
В тексте появляется Гаэтан с пламенным крестом на груди. Его космический контекст не вызывает сомнений (см. [6]). Здесь видна разница между Блоком и Стриндбергом, так как для последнего посвящение равнозначно приобретению знаний, изъятых из разного вида литературы. Обобщая разносторонние основы (принцип аналогии), шведский писатель создает «новый космос», возрастающий на основе науки и мистики (имагинативный палингенез).
«Роза и Крест» также остается во владении первой алхимической стадии nigredo. Однако ряд появляющихся символов и, конечно, окончание драмы предвещают последующий Режим
Великого Делания. Итак, существование Бертрана, так же как и Августа, обречено на постоянное терпение, и если ад понимать здесь как низвержение во тьму, то и замок графа Арчим-баута можно определить как inferno .
Практическая трансформация проходит на уровне символики драмы. Анаграммой имени Бертран является баран, зодиакальный Овен ( Aries ). В тексте Рыцарь-Несчастье также назван вороном, собакой, уродом. Не внедряясь в глубокую символику каббалистического языка алхимиков, можно определить, что Баран (Бертран) связан с Серой. Алхимический элемент Sulphur (Сера) является одним из трех основных элементов ( Mercurius – Sulphur – Sal ), способствующих получению философского камня. Таким образом, дорога Бертрана соединена с Космосом, так как получение философского камня тождественно с возобновлением божественной творческой креа-ции. Дорога Августа связана с натурой/природой. Поиски писателя Стриндберга должны были привести к обусловленным концепциям соединения человека с природой, образуя тем самым новый космос [16; 99]. Томас Бредсдорф пишет: «In Inferno there is only one category of signification, referred to quite simply as the ‘sign’. <…> He [Strindberg. – Д. O. ] prefer ‘sign’ to ‘symbol’ and ‘coincidence’ to ‘correspondence’. His technique is indistinguishable from that of the symbolists, but his terminology is different, devoid of their persuasion by connota-tion» [13; 71]. Как утверждал Стриндберг, фикция – это неоткрытые формы действительности. В таком контексте несоединимы также понятия самоубийства, жертвенной смерти и смерти как этапа nigredo 21. В конце драмы Бертран погибает от меча Рыцаря-Дельфина, пронзившего сердце героя. Пролитая кровь окрашивает черную розу, до этого спрятанную Бертраном на груди, в красный цвет. Двойная символика пролитой крови и красной розы предвещает возможность последнего алхимического режима – rubedo .
Основное внимание у обоих творцов сосредоточено на разных сотерах. Август, терпя поражения, неудачи, переживая душевные муки, связывает себя с Христом, в то время как Бертран – алхимический элемент, зависит от Изо-ры. Главная героиня драмы входит в цепь проявлений Души Мира – Божественной Софии. «Проявления» Христа посредственны и связаны с символами, такими как меч, богочеловечность Гаэтана и т. д.
Изора, чье имя является анаграммой имени Роза, в драме играет роль реагента. Именно она начинает алхимический процесс получения философского камня. Согласно символике Великого Делания, она представляет собой влажное начало и связана со ртутью (Венера, Луна, Королева). Имагинируя Гаэтана, она изменяет наклон действительности, из пространства profanum переносит в пространство sacrum . Соучаствующие женский и мужской элементы, соединяясь в последующих этапах трансформации, приводят к идеальному началу Камня – андрогинному Ребису. Несмотря на то что в драме соединяются не Бертран и Изора, а Изора и Алискан, а также на уровне духовной адекватности Изора – Гаэтан, указанные соединения становятся матрицей для трансформации Бертрана. Черная роза, упавшая из рук графини, оказывается на кровавой груди Рыцаря-Несчастье.
При всех приведенных расхождениях А. Блока и А. Стриндберга основной является идея вы-хождения за рамки реальной действительности. Дело здесь не в том, чья дорога эффективнее, но в том, что при разных пониманиях алхимической инициации стоило бы создать соответствующие определения для каждой из них. Тот же герметический опус имеет разное наименование в произведениях двух великих тружеников литературы. Алхимия Блока также очевидна и также непосредственно не подтверждена, как и причастность к кругу розенкрейцеров.
* Статья подготовлена в рамках проекта «SCANDICA: культурные конвергенции» при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
Список литературы Между спагирией и алхимией. «Infernо» А. Стриндберга и «Роза и крест» А. Блока
- Аксаков А. Н. Анимизм и спиритизм. М.: Аграф, 2001. 704 с.
- Бёме Я. Сорок вопросов о душе. М.: София, 2004. 302 с.
- Блок А. Записные книжки. М.: Новое литературное обозрение, 2000. 158 с.
- Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7: Дневники 1901-1921. М.; Л.: ГИХЛ, 1963. 544 с.
- Иванов В. В. Блок и Стриндберг//Александр Блок: Новые материалы и исследования. М.: Наука, 1993. Кн. 5. С. 402418.
- Сливкин Е. Катарский миф о небесном двойнике в драме Александра Блока «Роза и Крест»//Вопросы литературы. 2008. № 4. С. 85-104.
- Мережковский Д. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы//Rosyjskie manifesty lit. (cz. I), opr. Z. Baranski, J. Litwinow. Poznan, 1974. С. 8-11.
- Трисмегиста Гермес, Изумрудная Скрижаль//Майер М. Убегающая Аталанта. М.: Энигма, 2004.
- Фомин О. Сакральная триада. М.: Вече, 2005. 455 с.
- Фулканелли. Философские обители: Пер. с франц. М.: Наука, 2004. 622 с.
- Balbierz J. Nowy kosmos. Strindberg, nauka i znaki. Gdansk: Slovo/obraz/terytoria Publ., 2008. 456 s.
- Besant A., Leadbeater C. W. Throught-forms. London: Percy Lund, Humphries and Co. Ltd., 1925. 159 p.
- Bredsdorff T. ‘Give Us a Sing!’ Allegory and Symbol in Strindberg’s ‘Inferno’//Strindberg. The Moscow Papers/Ed. by M. Robinson. Stockholm, 1998. P. 69-79.
- Bugaj R. Palingeneza. Rozprawa o homunkulusach i niesmiertelnosci. Bydgoszcz, 2010. 300 s.
- Kalinowski M. Traktat o siarce//А. Strindberg. Inferro: tlum. M. Kalinowski. Warszawa, 1999. S. 201-260.
- Lagercrantz O. August Strindberg: tlum. E. A. Krasinska, Z. Lanowski. Warszawa, 1988. 358 s.
- Magomedova D. Blok and Strindberg: Notes on a Theme//Strindberg. The Moscow Papers/Ed. by M. Robinson. Stockholm, 1998. P. 133-140.
- Obolenska D. Имагинация Голубого цветка. Драма А. Блока «Роза и Крест»//Europa Orientalis. 2010. № 29. C. 79-98.
- Strindberg A. Inferno: Tlum. M. Kalinowski. Warszawa, 1999. 262 s.
- Tröger K. W. Gnoza hermetyczna//Studia religioznawcze. 1980. № 16.